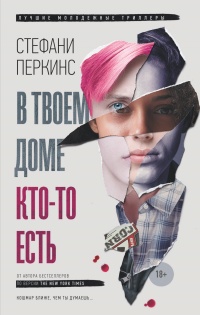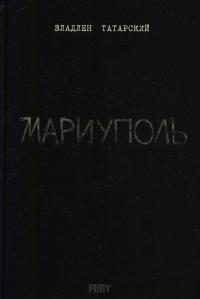Ознакомительная версия. Доступно 17 страниц из 81
и младенец, который плакал, когда проголодается, делал первые шаги и казался родителям величайшим благословением. Как можно смотреть на малыша и представлять себе то завершение жизни, которое хоть немного напоминало гибель моего отца?
– Я задам вопрос, – сказала Георгия и помолчала. – Как он умер?
Это был единственный вопрос, к которому я должна была приготовиться. Я должна была обдумывать свой ответ много раз. Мне нужно было думать о нем все то время, пока мы ужинали, пока я неуклюже танцевала, пока я спала. Но я не сделала этого. Несмотря на то что прошло почти шесть лет, даже после путешествия через полмира для того, чтобы отыскать этих людей, я и понятия не имела, что отвечать на такой вопрос. К счастью, из-за языкового барьера в нашем разговоре были невероятные пробелы, поэтому у меня было в запасе несколько секунд тишины. На английском языке эта пауза и то, что я ответила после паузы, были бы невероятно красноречивыми.
– О чем ты знаешь?
Георгия сжала кулаки и ответила:
– Машина.
– Да, – подтвердила я. – Автокатастрофа.
– Да? – спросила она.
– Да.
Она испустила вздох, который был отложен на долгие годы, и трижды перекрестилась, глядя в потолок. Она повторила:
– Слава тебе, Боже. Слава тебе, Боже. Слава тебе, Боже.
Я посмотрела на фотографию отца, висевшую на стене, к этой стене его руки прикасались сотни раз, и вгляделась в его рот. Одна его сторона теперь была искривлена в едва заметной улыбке.
Груз этой лжи будет тяготить меня вечно. Правильно ли я поступила? Разве его сестра не имела права знать правду? Разве правда не всегда лучший выбор? Как и многих других детей, меня учили, что честность – лучшая стратегия, но все мы знаем, что это ерунда. Иногда ваша подруга выглядит ужасно в своем новом желтом платье, но вы говорите ей, что она выглядит прекрасно, а когда она спрашивает, может ли надеть его, вы показываете ей большой палец вверх. Но это, конечно, была ложь совсем другого рода.
Более важный вопрос, который подняла эта ложь – и продолжает его поднимать, – был таким: кого именно я этим защищала? Пыталась ли я избавить свою тетю от того же горя, боли и скорби, через которые прошла я сама? Или же я защищала своего отца? Хуже того, стала ли я одним из тех взрослых людей, на которых я обижалась, – тем взрослым, который не мог вынести того, чтобы сказать вслух правду о нем? Неужели я превратилась в его сообщницу?
Я приехала в единственное место на свете, где люди все еще думали о нем хорошо, и не хотела их этого лишать. Как я могла заставить этих людей столкнуться с правдой об их любимом герое – с правдой, которую я сама едва могла принять? Я не могла. И не смогла. Я до сих пор не знаю, был ли этот мой поступок хорошим или правильным. Конечно, мои намерения были добрыми, но люди с добрыми намерениями все равно могут причинять вред. Я солгала. Очень сильно.
Автобус подъезжал к тому же кафе, где высадил меня накануне, и мы шли туда по жаре – сига, сига – мимо музея, в котором у меня все и начало налаживаться с поисками. В тени зонтиков кафе мы отдыхали и заказывали напитки, пока люди пристраивались за соседние столики и фотографировали это событие. Мне подарили три бутылки ракии, и все вокруг улыбались, несмотря на заметную грусть по поводу моего отъезда.
– Так рано уезжает, – сказал кто-то.
Этот кто-то был прав, но я должна была уехать.
В какой-то момент Георгия куда-то захромала, ее не было минут десять, а затем она вернулась с Анастасией, единственной оставшейся в живых сестрой моего деда, которого я никогда не видела. Медленно та села передо мной и крепко взяла меня за руки. Снова и снова она повторяла:
– Я не могу в это поверить.
Она тоже сказала мне, что отец был хорошим человеком, может быть, лучшим из всех, и мы сидели, держась за руки. Она самый старый человек, с которым я когда-либо разговаривала или к которому когда-либо прикасалась, глубокие морщины на ее лице и руках говорили, что она всю свою жизнь переживала трудности. Мне сдавило горло так сильно, что я начала про себя считать секунды до прибытия автобуса.
Через двадцать минут он приехал, и я обняла всех, расцеловала во все щеки.
Георгия сказала только:
– Гарифалица, agapi mou.
Лиза, любовь моя. Я обняла ее так, будто хотела забрать часть ее с собой. В салоне автобуса до Ираклиона я улыбалась и махала рукой, рисуя перед ними как можно более жизнерадостный образ, но как только моя семья скрылась из виду, я разрыдалась так сильно, что у меня сперло дыхание.
В автобусе за окном снова проносился мимо иссушенный критский пейзаж, на заднем плане снова вырисовывались прекрасные очертания гор, но на этот раз они казались мне уже более знакомыми, как будто часть меня осталась здесь навсегда. И в этом месте, как ни в каком другом, невозможно было спрятаться от мыслей, что мог чувствовать мой отец, когда впервые покидал свою деревню – в первый и в последний раз.
Я представила его в семнадцать лет в одежде защитного цвета, в рубашке на пуговицах с короткими рукавами, с чемоданом и вещмешком, уложенными под автобус. Он прислонил голову к окну, глядя на местных жителей, сидящих в кафе, потягивающих кофе с пенкой и читающих газеты. Обе его сестры и мать уже улетели в Афины, где была работа, а он уже больше года жил здесь с дядей и не мог дождаться, чтобы уехать. Наверняка он думал о том, что ему не хватает людей, которые бы смотрели на него по ту сторону тонированного стекла, но чем дальше автобус уезжал от Вори, тем быстрее уходил с души груз деревенской жизни, и в груди постепенно становилось легко и свободно. Больше не нужно было делить тесную комнатушку с таким количеством людей, с таким малым количеством еды. Больше не нужно было знать имя каждого вонючего человека, который, в свою очередь, знает обо всех твоих делах.
И может быть, самым приятным было больше не работать на дядю, который бил его за ошибки в уходе за полями и скотиной. Ему было интересно поглядеть, что из себя представляют Афины. Конечно, его сестры присылали ему письма, в которых рассказывали, как они обе сейчас хорошо зарабатывают в авиакомпании, и говорили, что для него найдется работа в
Ознакомительная версия. Доступно 17 страниц из 81