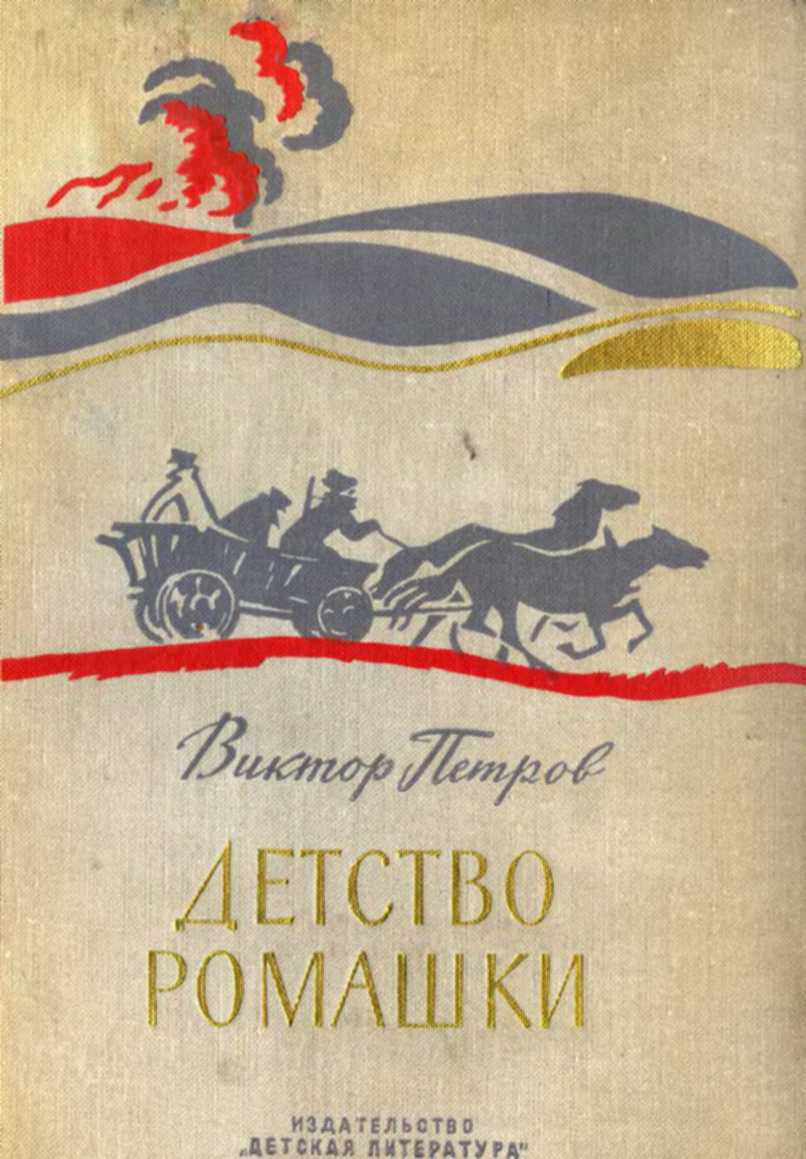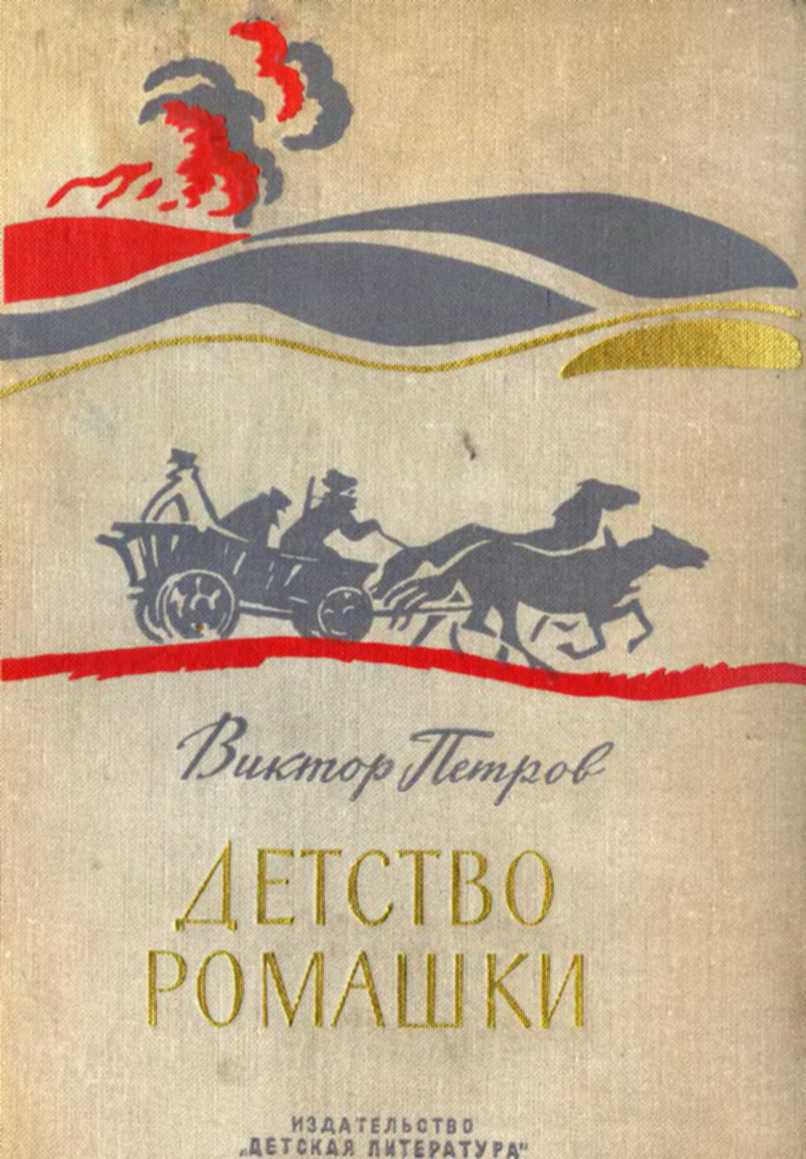собраниях комиссары, а вслед за ними командиры кораблей произносили длинные нравоучительные речи, а команда преимущественно молчала или выступала по вопросам, к службе прямого отношения не имеющим.
Тут было все наоборот. Комиссар Лукьянов, как всегда точно и кратко, рассказал о задачах предстоящего плавания. Занял всего пять минут.
Командир корабля Шестовский совсем не выступил. Он сидел за столом, прямой и слегка высокомерный, и смотрел куда-то вдаль поверх голов собрания. Зато говорила команда. Сперва исключительно комсомольская молодежь, а потом старики. И говорила она вещи, по мнению Бахметьева, просто неожиданные.
Ученик трюмный Поляков утверждал, что в помещениях было недостаточно чисто, и предлагал общие приборки сделать более частыми.
Сигнальщик Щетинин признавался, что недостаточно знает семафор и азбуку Морзе, а потому требовал, чтобы со всеми молодыми сигнальщиками непрерывно проводились занятия по этим предметам.
Электрик Благой заявил, что с вахтенной службой дело обстоит неблагополучно: поднятая на стенку сходня сползла и угрожала обвалиться, а вахтенный на юте не обратил на это никакого внимания; ночью шел дождь, и никто не подумал о том, чтобы закрыть машинные люки.
Говорили о дисциплине, об учебе, о судовых работах. И ни слова о еде, обмундировании или увольнении в отпуск. Это было невероятно.
Но комиссар Лукьянов, опершись локтем о стол, кивал головой и чуть улыбался. Он, видимо, знал, что так и должно было быть. И время от времени явно поддразнивал выступавших. Говорил: «Ладно, ладно», — и прищурившись слушал, когда ему доказывали, что дело обстоит совсем не ладно.
Наконец Бахметьев не удержался и встал. Ему еще никогда не приходилось говорить на общих собраниях, но, против всяких ожиданий, это оказалось совсем легко. Может быть, потому, что он думал так же, как и все они, и тоже волновался.
Ему кричали: «Правильно!» а когда он кончил, дружно аплодировали. Он сел красный и смущенный и, садясь, поймал на себе холодный, почти иронический взгляд командира корабля Шестовского.
Но теперь на какую угодно иронию ему было просто наплевать. В этот день они выходили в море, и с этого выхода для всего корабля начиналась совершенно новая, замечательная жизнь.
Перед съемкой пообедали. К обеду Бахметьев побрился и надел новую тужурку.
19
Ермашев оказался учеником рулевым и, между прочим, на редкость способным — с первого же раза превосходно лежал на курсе, в то время как его товарищи просто безбожно катались из стороны в сторону.
Плавать с одним опытным старшиной-рулевым и тремя учениками — сплошное мучение. Поэтому Ермашев для корабля был, так сказать, даром небес, однако хвалить его покамест не следовало. Нужно было сперва к нему присмотреться и понять, что он за человек. Кстати, почему он так неопрятно выглядел?
Бахметьев выждал, пока Ермашев сменился с руля, и подозвал его к себе:
— У вас грязное рабочее платье.
Ермашев шагнул вперед, остановился вплотную перед Бахметьвым и громко сказал:
— Отдайте в стирку с вашим бельишком — будет чистое.
Все, стоявшие на мостике, как по команде, повернулись в их сторону. Командир корабля Шестовский опустил бинокль, усмехнулся, комиссар Лукьянов поднял брови и наклонился вперед, а штурман Жорж Левидов, явно перепугавшись, точно страус спрятал голову в свой штурманский ящик.
Странно, Бахметьев не ощущал никакого волнения. Он даже не подумал о том, что выходка Ермашева была оскорбительной. Только вспомнил, что по долгу службы немедленно должен принять соответствующие меры. А потому, взглянув Ермашеву в глаза, сказал:
— Вы будете арестованы.
— Вот что! — закричал Ермашев. — Ты меня арестуешь? — Но сразу осекся. Комиссар Лукьянов положил ему руку на плечо и, внезапным движением повернув его лицом к трапу, негромко приказал:
— Ступайте!
И Ермашев ушел, потому что сопротивляться Лукьянову не мог. Но на трапе повернулся и, оскалившись, неизвестно кому погрозил кулаком.
— Товарищ командир... — начал Бахметьев, но Шестовский остановил его рукой.
— Можете не докладывать. Я сам все видел. — Лицо у него было брезгливое и холодное. На Бахметьева он смотрел так, точно именно он был виноват во всем случившемся. Еле слышно сказал: — Вот они, ваши любезнейшие, — и, повернувшись к Лукьянову, сразу стал выглядеть озабоченным и даже слегка взволнованным: — Что-нибудь придется предпринять, товарищ комиссар.
— Что-нибудь? — переспросил Лукьянов. — Двадцать суток, а не что-нибудь, товарищ командир.
Конечно, через несколько минут весь корабль уже знал о происшествии на мостике.
О нем говорили на верхней палубе и внизу, в жилых помещениях и даже в машинах и кочегарках, где оно, каким-то непонятным образом, сразу же стало известным.
Волна быстро бежала вдоль борта, белая пена высоким буруном поднималась за кормой, весь корпус дрожал сильной дрожью, и казалось, что сам миноносец охвачен тем же волнением, что и его команда.
Больше всего людей собралось в носовом кубрике вокруг сидевшего на рундуке бледного как полотно Ермашева. Это был почти митинг, и очень решительно настроенный митинг.
— Офицерье! Гад! — выкрикивал Ермашев. — Мы таких десятками стреляли! Беляк! Кадет!
— Хватит! — вдруг перебил его сигнальщик Щетинин. — Хватит орать!
— Только комсомол своим поведением позоришь, — сказал ученик трюмный Поляков и с сердцем добавил: — Дурак!
— Хуже, чем дурак, — поправил электрик Благой. — Враг, вот ты кто. Форменный враг.
Весь круг угрожающе приблизился к Ермашеву, и он отшатнулся назад.
— Да что? Да что? И сказать, что ли, нельзя?
— Нельзя, — ответило ему несколько голосов сразу.
И вечером, когда миноносец отдал якорь на Отдаленном рейде, комиссар Лукьянов пришел в каюту к Бахметьеву. Закрыл за собой дверь, взял со стола папиросу и закурил.
Бахметьев знал, что своего гостя ему торопить не следует, а потому, отложив в сторону книжку и повернувшись в кресле, терпеливо ждал.
— Команда нами недовольна, — вдруг сказал Лукьянов, — что мы Ермашеву двадцать суток дали.
— Как так недовольна? — удивился Бахметьев.
— Говорят: мало. Под суд отдать надо, — и Лукьянов, нагнувшись над столом, осторожно стряхнул пепел. — Вот какие люди к нам пришли.
— Превосходные, — согласился Бахметьев. — Работать можно.
Но все-таки многого он не понимал: откуда взялась эта прямо-таки болезненная наглость