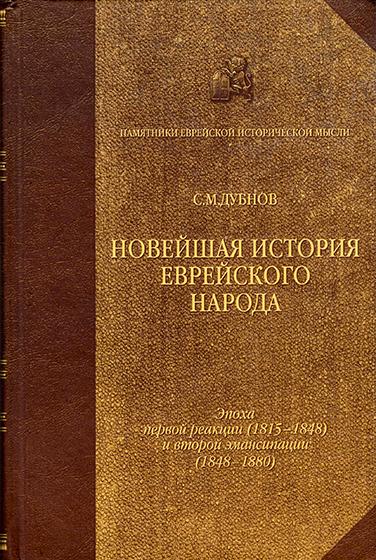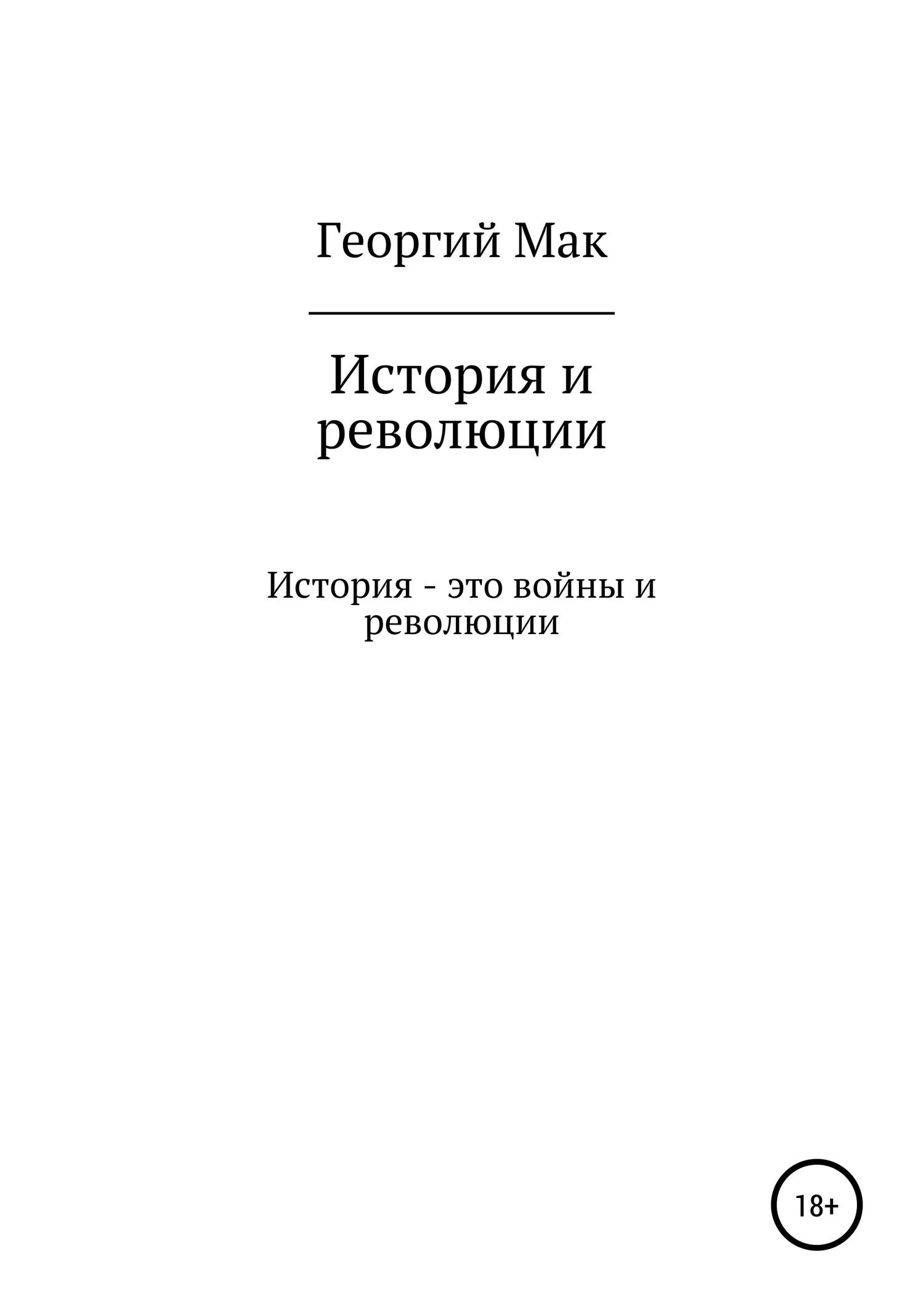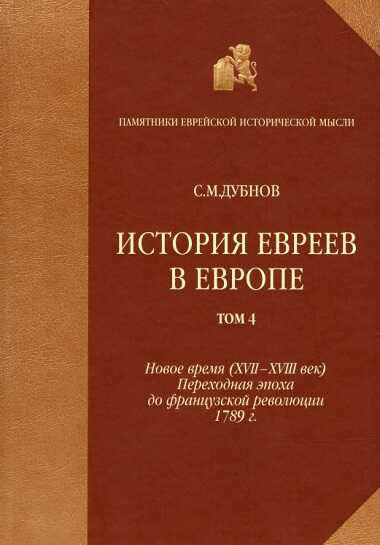не остановились и даже не согласились подняться пораньше, чтобы осмотреть примечательное место. Брауну пришлось совершать прогулку при лунном свете в одиночестве.
Впрочем, после рассвета Крафты все же присоединились, чтобы осмотреть каменный особняк Скотта. Они увидели большой зал со сверкающими доспехами и личную библиотеку писателя, состоящую из двадцати тысяч книг в теплых кожаных переплетах. Браун присел в кресло Скотта, а потом все трое увидели просторный синий плащ и клетчатые брюки, в которых Скотт жил и умер, – теперь одежда хранилась в застекленном шкафу. Им удалось увидеть внучку Скотта, хотя по ее виду было понятно, что ей не хотелось там находиться.
В аббатстве Драйберг они постояли возле увитой плющом могилы Скотта, а затем поспешили на дневной поезд: впереди лекция в Овике, а затем в Ленгольме. Оттуда направились в Карлайл. Брауну (а возможно, и Уильяму) пришлось ехать снаружи, вместе с багажом. Это было связано не с расовыми предубеждениями, а просто в силу того, что дилижанс оказался полон.
Последней остановкой в Шотландии стала Гретна Грин, деревня, прославившаяся скоростными свадьбами. Затем дилижанс миновал реку Эден и живописную долину с небольшими сельскими домиками и пасущимися овечками. Вдали поднимались темные столбы дыма. К моменту прибытия в английский город Карлайл устали все, даже неутомимый Браун. Всего ночь отделяла их от места назначения. Им предстояло прибыть в одно из самых легендарных мест Англии, которым восхищались Вордсворт и Кольридж и где жила просвещенная женщина Гарриет Мартино, знаменитый писатель, мыслитель, путешественник и экономист, которой с трудом удалось живой выбраться из Америки.
Гарриет Мартино отплыла в Нью-Йорк жарким летом 1834 года[659]. Ей было тридцать два года, и она уже добилась известности, прославившись научно-популярными трудами, разъясняющими суть политической экономии рядовым читателям. На литературную сцену ворвалась с книгой «Иллюстрации к политической экономии» – популярный девятитомный труд вывел ее в передовые ряды борцов с рабством.
Несмотря на репутацию противницы рабства, Мартино была полна решимости оценить Соединенные Штаты без предубеждений. Страна же не была готова принять ее столь открыто. Там развернулось целое движение сторонников рабства, причем не только на Юге. Расистские выступления начались в Нью-Йорке. Корабль, на котором она плыла, кружил вокруг берега, поскольку капитан беспокоился за ее безопасность[660].
Однако Гарриет Мартино достигла такого возраста и положения, что могла не заботиться о том, что подумают или сделают другие. Она пережила тяжелое детство, пришлось бороться за образование. Она была инвалидом: к двадцати годам Гарриет почти полностью потеряла слух. (До конца дней пользовалась слуховой трубкой. Те, кто хотел пообщаться, должны были говорить прямо в раструб.) Она писала книги, преодолевая хроническую болезнь и клеймо старой девы, опровергая все ожидания общества от такой, как она. И женщина была тверда в решимости увидеть страну – и рабство – «каковы они есть».
Удивительно, но тяжелее всего пришлось не на Юге, а на Севере. Проблемы начались, когда в Филадельфии спросили, как она отнеслась бы к тому, если бы кто-то из знакомых решился вступить в брак с чернокожим[661]. Англичанка отмахнулась от подобных вопросов, ответив, что не собирается вмешиваться в чьи-то матримониальные планы вне зависимости от цвета кожи. Собеседница любезно простилась и ушла, а потом распустила слух, что Гарриет Мартино проповедует «слияние», то есть межрасовую любовь. Мартино сочла это абсурдным, но американские друзья были в панике. Ей советовали не ехать на Юг.
В Вашингтоне американцы продолжали играть необычные роли. Сенаторы-южане тепло принимали Мартино, твердили, что хотели бы, чтобы она увидела их «особый институт» собственными глазами и описала все, что видела: и дурное, и хорошее. В Кентукки она остановилась у дочери Генри Клея, рядом с плантацией сенатора, а в Чарльстоне ее сопровождал не кто иной, как Джон С. Колхаун.
Поначалу Мартино была очарована. Она остановилась в отеле «Плантерс», где была во время бегства Эллен. Здесь же стала находить на подоконнике небольшие подарки: носовые платки, надушенные гиацинтом, красивые вазочки с мармеладом, «предмет индейской работы»[662]. Все это в комнату приносили невидимые руки. Каждый день к отелю прибывали шесть экипажей с кучерами, готовые отвезти ее куда захочет. Мартино с удовольствием поднялась на шпиль церкви, откуда любовалась головными повязками «мулаток», носивших воду и фрукты прямо на голове, блестящими листьями юкки, синевой далеких рек и островами.
Друзья настояли, чтобы она побывала на субботнем вечернем рынке, устраиваемом рабами. Ей показывали, с каким удовольствием те продают свои изделия и фрукты, – они же явно счастливы, говорили ей. Однако Мартино хотела увидеть другой рынок, и это посещение все изменило.
Она на всю жизнь запомнила те сцены. На столе стояли два аукционера. Один держал молоток, другой выкрикивал ставки. За ними и внизу стояли те, кого собирались продавать. Вперед вышла женщина-мулатка в желтом платке и фартуке. На руках держала младенца, другой ребенок хватался за ее юбку. Мартино не могла забыть взгляд матери, метавшийся из стороны в сторону.
Англичанка подумала, что страдания матери заставят толпу замолчать, но все вокруг возбудились – и больше всех аукционер. Он с шуточками принялся призывать покупателей делать ставки. Это самое жуткое зрелище, какое только доводилось видеть.
Тем временем к ней обратилась дама, у которой она гостила, писательница с Севера:
– Вы знаете мою теорию: одна раса должна подчиняться другой. И неважно, кто это будет. Если когда-нибудь чернокожие возьмут верх, я не буду возражать, когда меня поставят на стол и продадут с моими детьми[663].
Мартино не знала, что ответить, лишь зафиксировала эти слова для книги.
Затем настала очередь мальчика лет восьми-девяти.
«Невыносимо было смотреть на этого ребенка», – вспоминала Мартино. Они со спутниками быстро покинули рынок рабов.
Казалось, во всем городе погасли огни, а вокруг распространилось жуткое сияние. Они отправились на «первый бал юной наследницы»[664]. Когда дарили цветы, когда вокруг вальсировали девушки в воздушных платьях, когда к ней подошел ребенок, чтобы ее поцеловать, а мужчины вокруг рассуждали о пошлинах и тирании, Мартино по-новому взглянула на черные лица в зале.
Потом стала задавать вопросы. Хотя отвечали ей с точки зрения рабовладельцев, она почувствовала себя обязанной сказать: «Все, что я узнала о нравственных преступлениях, невыразимых пороках и муках рабства, и что навеки останется в моем сердце, сказано теми, кто страдает от этого»[665].
Мартино не стала скрывать своего ужаса от хозяев дома. К их чести надо сказать, что они остались столь же любезными, как раньше. На Юге ей никогда не приходилось опасаться за свою безопасность. Зато вернувшись на Север,