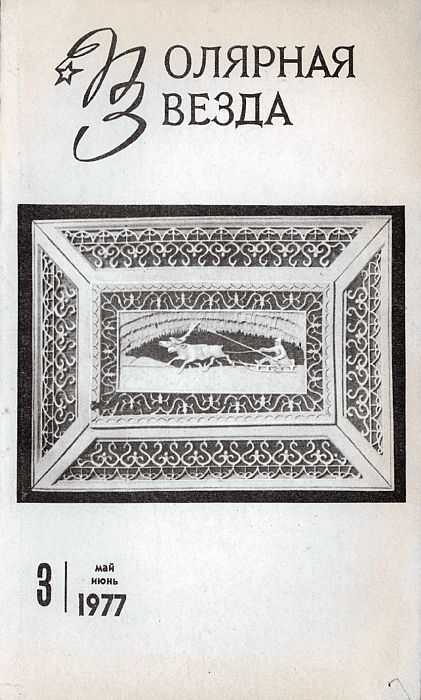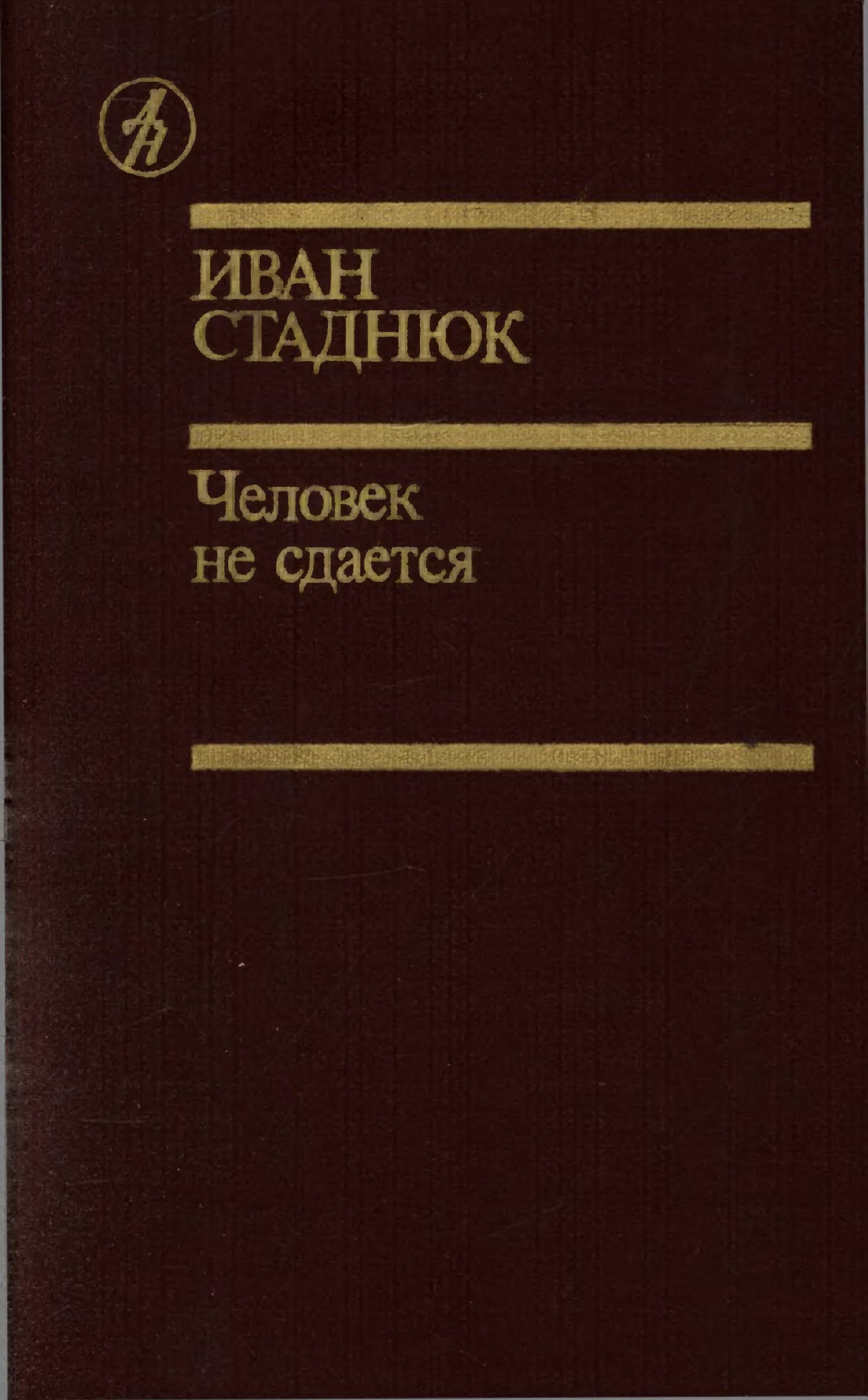то ли над левой бровью.
— Это уже кое-что. Сейчас же проверить все парикмахерские, благо их у нас не так много, и выяснить, не брился ли подобный человек. Конечно, вряд ли он, совершив преступление, пошел в парикмахерскую, чтобы избавиться от такой приметы, как борода, однако проверить надо. Поезжайте, Николай Спиридонович, в аэропорт и наведите там справки, какие самолеты ушли с вечера и не появлялся ли этот тип на аэровокзале.
— Разрешите идти?
— Идите и действуйте. Товарищей из милиции я проинформирую.
Оставшись один, Турантаев созвонился с главным инженером и послал за ним машину.
С чего начать беседу с Орешкиным, как ее построить, чтобы не обидеть, не задеть самолюбие человека при снятии отпечатков пальцев?
Орешкин бойко вошел в кабинет, поздоровался и, чему-то улыбаясь, спросил:
— Айсен Антонович, опять, наверное, по поводу этого бланка? Будь он неладен. Вы уж меня извините, что я поднял...
— Опять, — перебил его Турантаев. — А вы что это сегодня словно именинник?
— Я и вправду именинник. Вот, — Орешкин вынул из кармана сложенный вчетверо листок бумаги. — Телеграмма от племянника. Сегодня прилетает.
— Демобилизовался, значит? Поздравляю.
— Спасибо.
— М-да. Право, не хотелось бы портить вам настроение, но... придется немного испачкать ваши пальцы.
— Не понимаю.
— Бланк направляем в Якутск на экспертизу.
— Так вы все же предполагаете, что его кто-то выкрал, а потом подбросил обратно?
— Мы просто проверяем. Такая уж наша работа.
— Ой ли? — Орешкин покрутил головой. — Вы, наверное, и Огнева, и Зайцева начнете проверять. А они, скажу вам, люди хорошие. Особенно Зайцев. Тихий такой, скромный.
— Дроздов-то?
Орешкин округлил глаза:
— Кто? Какой еще Дроздов?
— Иван Александрович, — подполковник наклонился над столом, — настоящая фамилия Зайцева — Дроздов. А его прошлое — фашистский холуй. В годы войны он участвовал в карательных экспедициях и был там, скажу вам, не последней овчаркой. Охотился на партизан. Истязал наших людей. Всего и не перечислить. Его вина такова, что не выдержит земля, как говорят у нас в Якутии. Мы за ним наблюдали, да, как видно, проворонили: скрылся или убрали.
— Но почему вы его не арестовали до сих пор?
— Такие вопросы, Иван Александрович, решаются не сразу...
VII
Самолет заходил на посадку. Вот его шасси мягко коснулось грунта, и он плавно покатился по летному полю. Вскоре винты закрутились вхолостую, а еще через минуту замерли. Открылась дверь, и пассажиры, разбирая свои вещи, стали спускаться по трапу.
Орешкин напряженно всматривался в прилетевших. Вот показался тот, ради которого он приехал. Он узнал его сразу. Это был гвардии старшина. Одет в поношенное, но хорошо отутюженное обмундирование. Из-под отворотов шинели ярко сверкали ордена и медали. Старшина легко сбежал вниз и сразу очутился в объятиях Ивана Александровича.
— Павел?!
— Дядя?! Вот здорово! — обнимая Орешкина, воскликнул Павел. — А я, — смеясь, продолжал он, — вас почему-то именно таким и представлял, только без бороды.
— Ну, покажись, каков ты есть, — близоруко щурясь, Орешкин отступил на шаг. Перед ним стоял рослый, стройный, подтянутый солдат. В хорошо подогнанной форме, с открытым русским лицом, на котором из-под широких, сросшихся над переносицей бровей светились голубые глаза. Орешкин сразу определил в солдате хорошего спортсмена. Он тут же вспомнил о письмах брата Ильи: их сын Павел очень похож на мать. А так как он хорошо помнил жену брата, сразу обнаружил это сходство.
— А тетя где? — спросил Павел.
— Приболела малость. Что же мы тут стоим? Идем!
— Ого-го, погодка-то у вас благодать! — озираясь, восторгался Павел. — Светло, тихо, а меня в поезде стращали, что у вас лютые пурги. Оказывается, не так страшен черт, как его малюют.
— Улеглось. А то было дело.
Иван Александрович поднял чемодан, взял Павла под руку, и они направились к машине.
Вскоре они уже входили в квартиру Орешкина.
— Матушка! — с порога подал голос Иван Александрович. — Принимай гостя!
— Ой, Паша!.. Милый! — всплеснула руками Орешкина. — Наконец-то... вот радость-то!..
— Здравствуйте, Вера Васильевна! Здравствуйте, дорогая тетенька! — обнимал ее Павел. — А вот вас я, признаться, представлял совсем другой. Вы почему-то мне казались такой же маленькой, как моя покойная мама.
— Проходи, милый, проходи... — засуетилась Вера Васильевна. — К столу пожалте, а то в дороге, поди, проголодался.
— Признаться, да.
Иван Александрович наполнил рюмки вином и провозгласил тост за племянника. Завязалась оживленная беседа.
— Ты что же это за последнее время так редко писал? — укоризненно спросил Иван Александрович. — Насколько помнится, последнее письмо мы получили в начале марта.
— В котором я писал, что скоро демобилизуюсь?
— Ну да.
— Правильно. А больше я и не писал. Все ждал, думал, вот-вот будут увольнять, а с демобилизацией, черт побери, почему-то задержались.
— Ну, если так. А то я уже было подумал, что ты зазнался...
— Что вы, дядя?! Как вы могли? Ведь, кроме вас, у меня никого и не осталось. И с чего мне, собственно, зазнаваться?
— Ну как же, вон герой какой! Кавалер трех орденов, четырех медалей. Где уже дяде до тебя: он даже как бомбы-то рвутся, не видел. Просидел всю войну под бронью. Испугался...
— Дядя! Неужели вы в самом деле подумали, что я о вас подобного мнения? Зря ведь никого не бронировали. Вероятно, так надо было...
— Ладно, ладно, — примирительно заговорил Иван Александрович и положил руку на плечо племянника. — Я ведь пошутил, конечно. Помню, во все инстанции обращался, вплоть до ЦК, просился на фронт, но каждый раз отказ: вы здесь нужнее. Хоть я и не был там, — он показал рукой на запад, — не пережил того, что пережил ты, но знаю, что изготовленные нашим заводом штучки здорово беспокоили фашистов.
Паша сказал, что он все это хорошо понимает.
— А как твое здоровье? — неожиданно поинтересовался Иван Александрович. — Ты же был серьезно ранен? Не беспокоит?
— Ерунда. Зацепило немного, но, как видите, все в порядке.
— А это, над бровью, тоже память войны?
— Это у меня с детства. Папа рассказывал: когда я только-только начинал ходить, упал на совок для песка.
— Ты, Ваня, забыл, — вмешалась Вера Васильевна, — а я помню, Ильюша нам писал об этом. Ну, а теперь