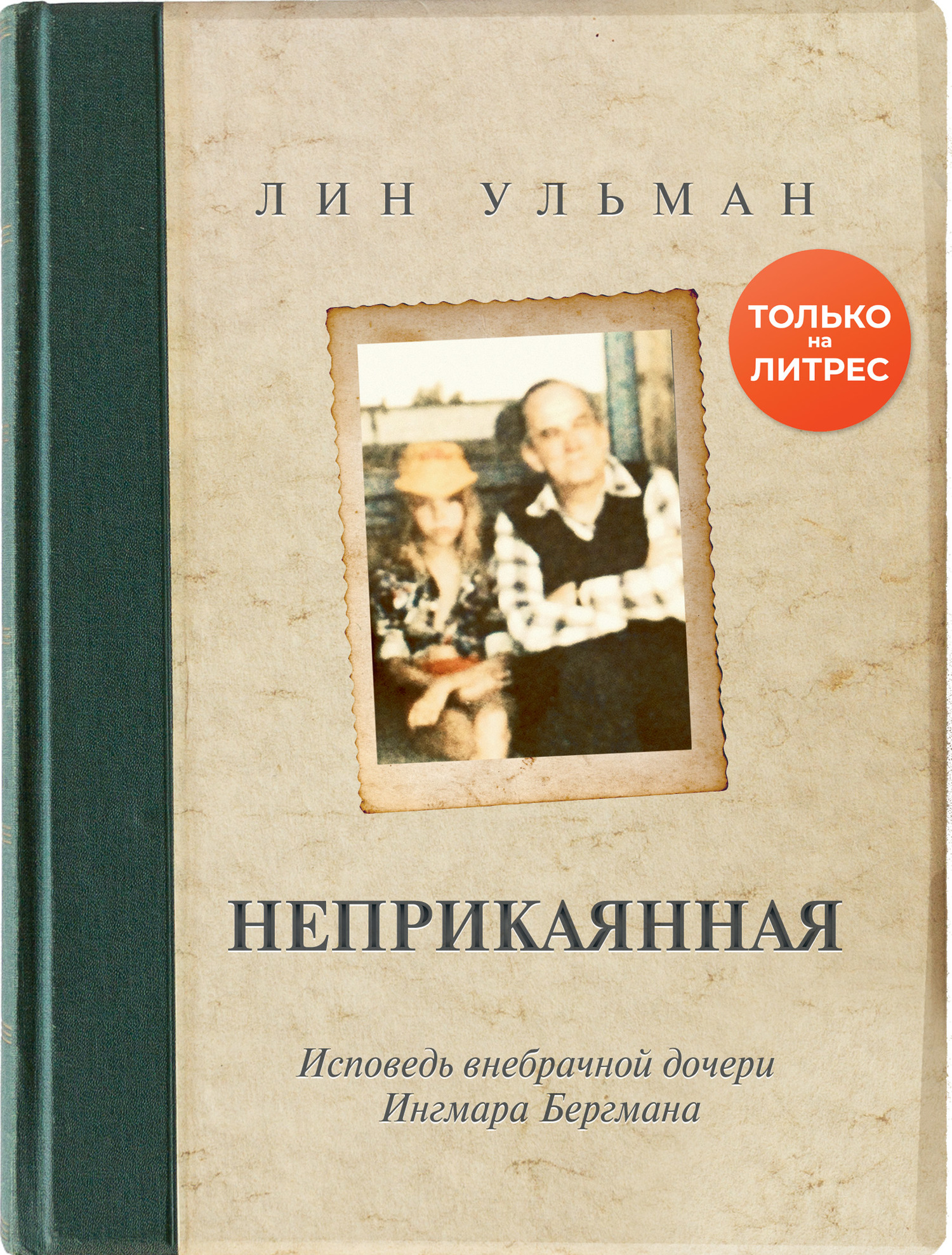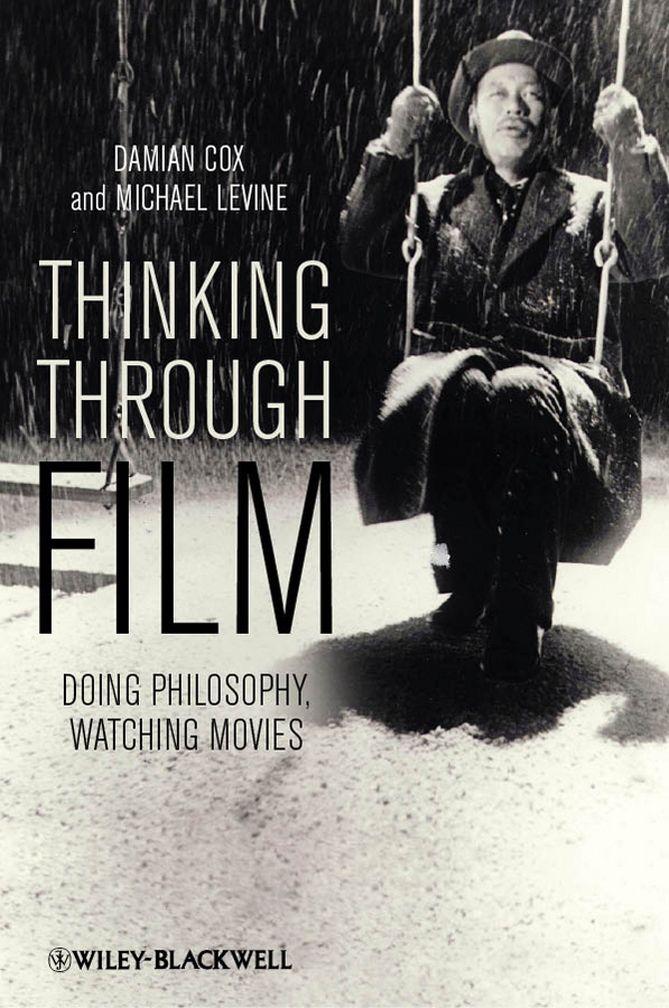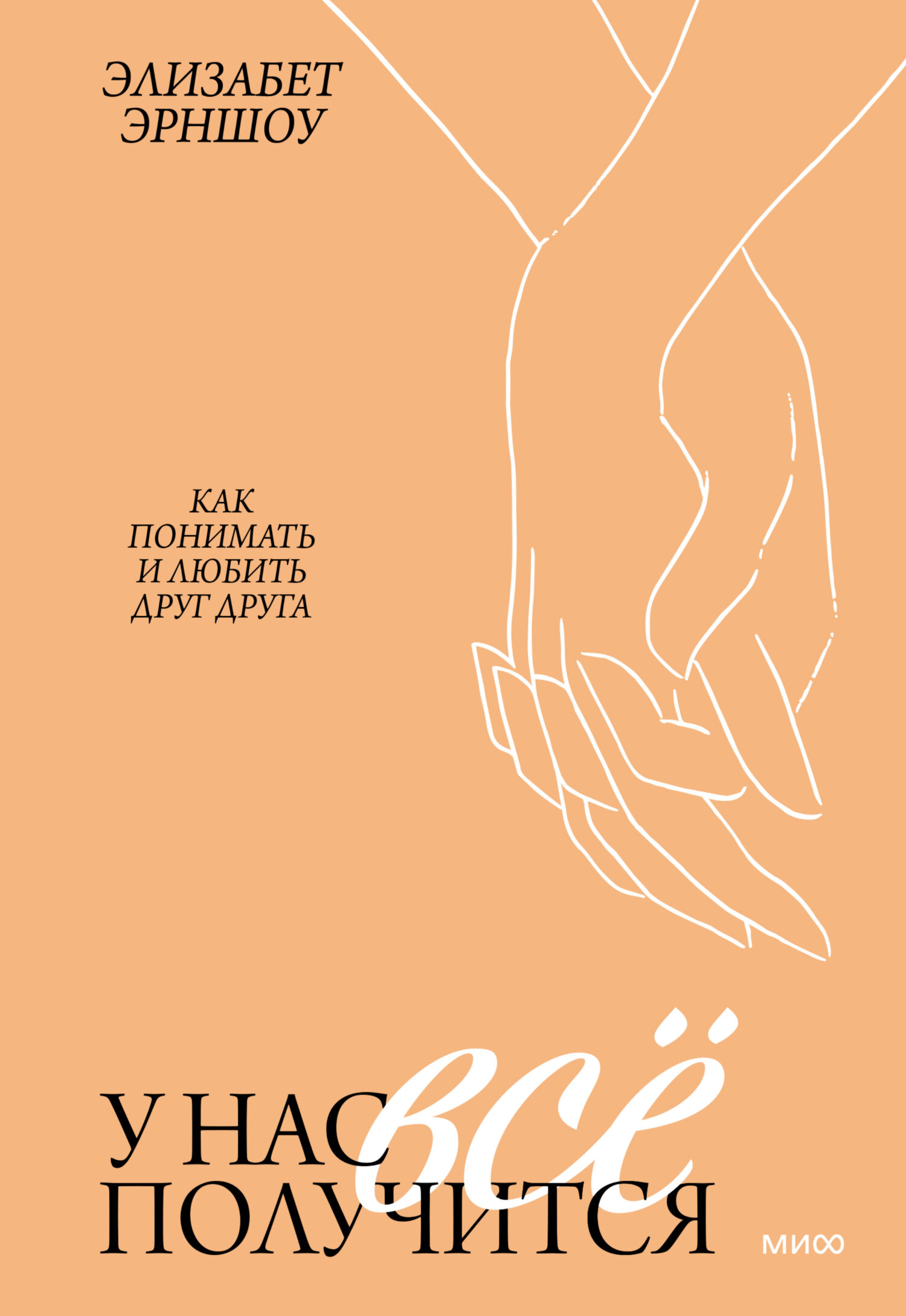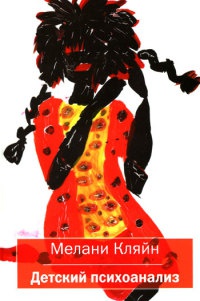образом режиссёр создаёт ощущение неотвратимого рока, почти греческой трагедии: чайка уже здесь, верёвка уже висит, вот, посмотри на неё, она уже сыграла свою роль, драма уже необратима, и дальше только дело времени. Что-то подобное говорит Эдипу Тиресий: трагедия уже состоялась, ничего нельзя исправить, нам остаётся только принять её последствия.
— Страх вызывает неизвестность. Если бы ни мы, ни герои не видели этого объекта, было бы ещё более тревожно. Несмотря на то что Вы отрицаете различие глубины и поверхности, можно попросить Вас привести пример аналитической интерпретации какого-нибудь фильма. Скажем, «Антихриста» или «Меланхолии» Ларса фон Триера.
— «Антихрист» мне кажется одним из наиболее удачных примеров встречи психоанализа и кинематографа, где главный герой психотерапевт, который пытается как-то определить, простроить и разложить по полочкам свою жену, дать ей диагноз, вписать её в свой дискурс, прописать ей курс лечения. Вполне в духе бихевионизма он спрашивает её: «Какой твой главный страх?» Она отвечает ему: «Лес». — «Ну тогда поедем в лес, я научу тебя не бояться леса». Ларс фон Триер делает это, конечно же, с огромной иронией по поводу всех этих так называемых психотерапевтических практик. Нет ничего более комичного, чем знающий субъект, этакий доктор, который думает, что знает всё про другого человека. Но в определённый момент она устраивает бунт и рушит всё его стройное здание знаний, как карточный домик. Абсолютное женское наслаждение становится для него такой точкой реального, тем Nabel, дальше которого познание и интерпретация продвинуться не могут. Страсть, безумие, одержимость, демонизм — всё то, что героиня «Антихриста» предъявляет своему мужу, — не только не постижимы для него, но и оказываются разрушительны. Драма этого фильма состоит в том, что герой не смог воспринять, увидеть и почувствовать женское, единственное, что он смог с ним сделать — это убить, вычеркнуть из своей жизни. Лучшая иллюстрация тезиса Лакана, что «Женщины не существует».
— Великолепный, блистательный, рафинированный психоаналитический этюд, но у меня возникает подозрение, что это всего лишь одна из версий трактовки этого фильма. И за кадром остаются глубокие экзистенциальные переживания, библейские метафоры и другие подтексты и контексты. Считаете ли Вы психоаналитическую интепретацию исчерпывающей?
— Я бы не сказал, что психоанализ — это модель для объяснения. Мой тезис заключается в том, что психоанализ как раз подрывает любые попытки понять, объяснить и разложить всё по полочкам. Психоанализ всегда оставляет в человеке нечто принципиально непознаваемое, не анализируемое. В этом смысле я на стороне героини «Антихриста», которая полностью рушит дискурс и идеологию. Этим же занимаются и психоаналитики: мы вносим разлад в стройную систему убеждений, которыми живёт человек. Например, когда пациент настаивает, что «мужчина должен хотеть того-то» или «в это возрасте уже поздно желать того-то», ты всегда задаёшься вопросом, а почему он так решил и кто ему это сказал? И психоанализ подвигает человека не то чтобы на бунт против Большого Другого, а на радикальное сомнение в нём. Психоанализ подводит человека к тому, что невозможно ни понять ни объяснить в самом себе, к объекту влечения. Этим он отличается от психологии, которая остаётся на уровне объяснений, пониманий и интерпретаций. Поэтому я категорически против того, чтобы объяснять кино при помощи каких-то психоаналитических штампов. Работа анализа заключается прямо в противоположном: подвести зрителя к непониманию кинематографа, разрушить те иллюзии, стереотипы и предубеждения, при помощи которых мы смотрим на произведение искусства. А когда человек чего-то не понимает, он начинает искать, начинает думать, у него запускаются совсем иные механизмы психики. Разломить и разомкнуть представление человека о самом себе — в этом состоит и задача психоанализа и искусства вообще.
— Это принцип дзенского обучения. Не кажется ли Вам, что любая психоаналитическая призма рассмотрения кинематографа является редукцией, неким упрощением очень сложной, многослойной ткани кинематографического языка и текста к простейшим, набившим оскомину эдиповым комплексам, желаниям, соблазнам, вытеснениям, сублимациям и бесконечным кружениям в треугольнике символического, воображаемого и реального? Не есть ли это упрощение, ибо фильм всегда сложнее, чем любая психоаналитическая модель?
— Именно об этом я и говорю. Вы совершенно верно меня поняли. Мы можем пользоваться разными призмами, но психоанализ вносит в них трещины. Можно пользоваться теми или иными моделями, но наша задача находить те случаи, в которых эта модель не работает. Именно там, где не работают схемы, мы можем встретить своё собственное желание. Как, например, те люди, которые хотели допытаться, что же означает собака у Тарковского? Когда режиссёр не отвечает на их вопрос, они сталкиваются со своим собственным желанием знать, и оно их тревожит. Это хороший психоаналитический приём. Или, например, как в конце «Андрея Рублёва» режиссёр показывает иконы: камера движется по горизонтали и крупно показывает линии и узоры, мы не видим ликов святых и не понимаем, что это иконы. И только пост-фактум в своём воображении у нас складывается целостная картина того, что это троица. Мы узнаём её по отдельным деталям, частный фрагментам, единичным чертам, которые в нашем сознании складываются в завершённый образ; мы ещё не видим её глазами, но уже представляем её своим внутренним зрением. Точно так же работает и стадия зеркала, описанная Лаканом. И цель анализа заключается как раз в том, чтобы разомкнуть образ, который казался нам завершённым, разъять личность, которая казалась неизменной, и сделать это таким образом, чтобы у человека пост-фактум сложилась новая мозаика реальности. Здесь мне вспоминается цитата из фильма «Пять препятствий», где Йорген Лет снимает пять новелл по сценарию Ларса фон Триера, в конце каждой из них он говорит одну и ту же фразу: «Сегодня со мной произошёл новый опыт. Может быть, я пойму его через несколько дней. А может быть, не пойму». То, к чему нас подводит кинематограф, и то, к чему нас подводит психоанализ, это и есть новый опыт встречи с реальным, который мы иногда понимаем, а иногда не понимаем.
— Это опыт за пределами вербализации? Это опыт, который бунтует против любого дискурса? Его невозможно описать, его возможно только пережить?
— «Пережить», я думаю, это тоже немного не то слово. Реальное — это то, что случается с неизбежностью. Как верёвка у Хичкока. И именно это неизбежное и лежит в основании искусства: все мы пытаемся вербализовать, опредметить и выразить то, для чего нет ни слов, ни образов. То есть, выговаривать своё бессознательное — это задача невозможная и неизбежная одновременно для каждого художника.
— Дмитрий, Вы практикующий психоаналитик, и как практик Вы приносите людям пользу, психоанализ призван исцелить больного. А вот психоаналитик теоретизирующий — он бесполезен, потому что цель такого прекрасного