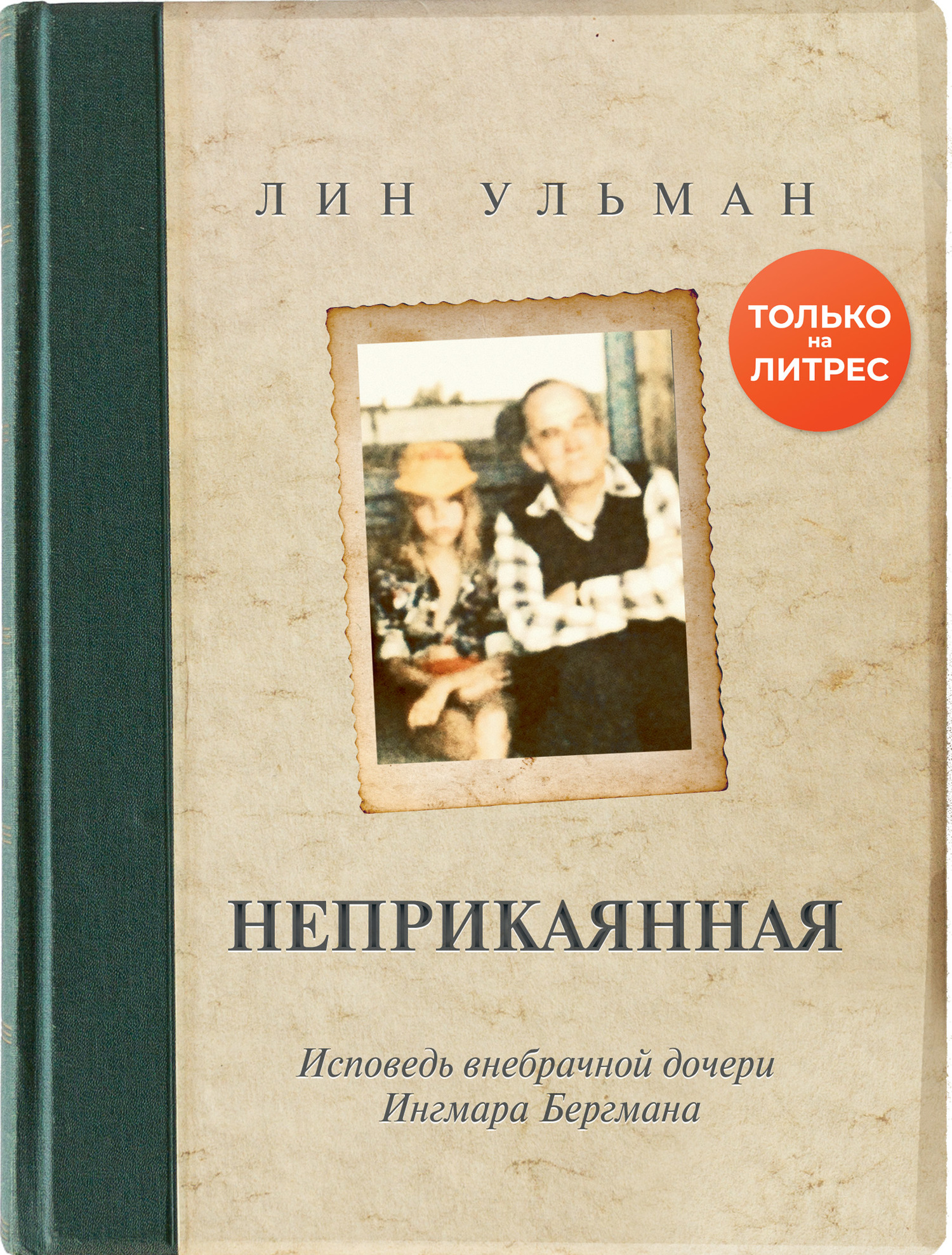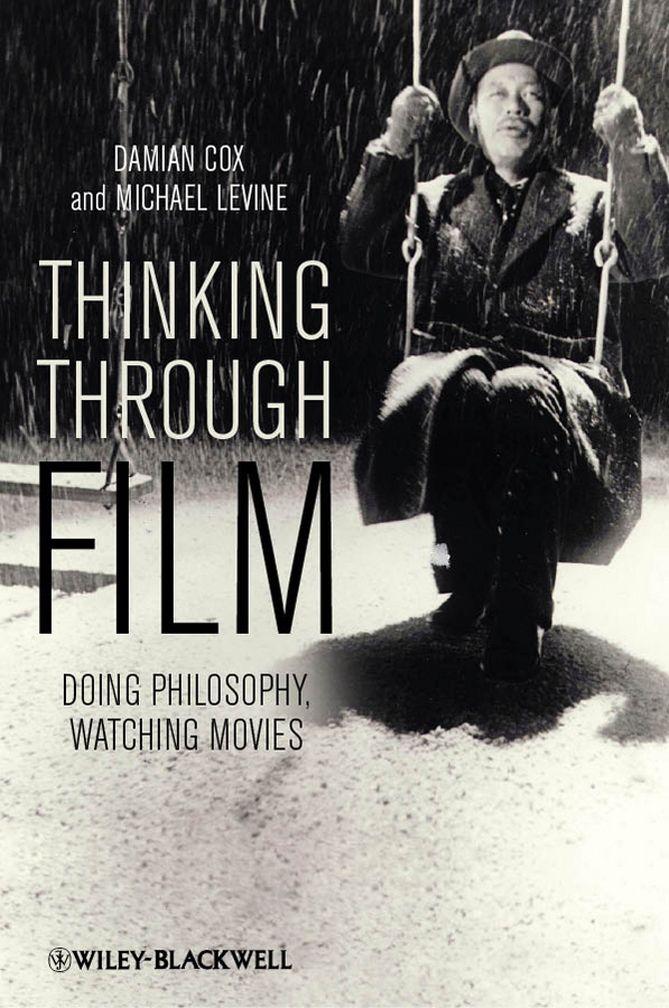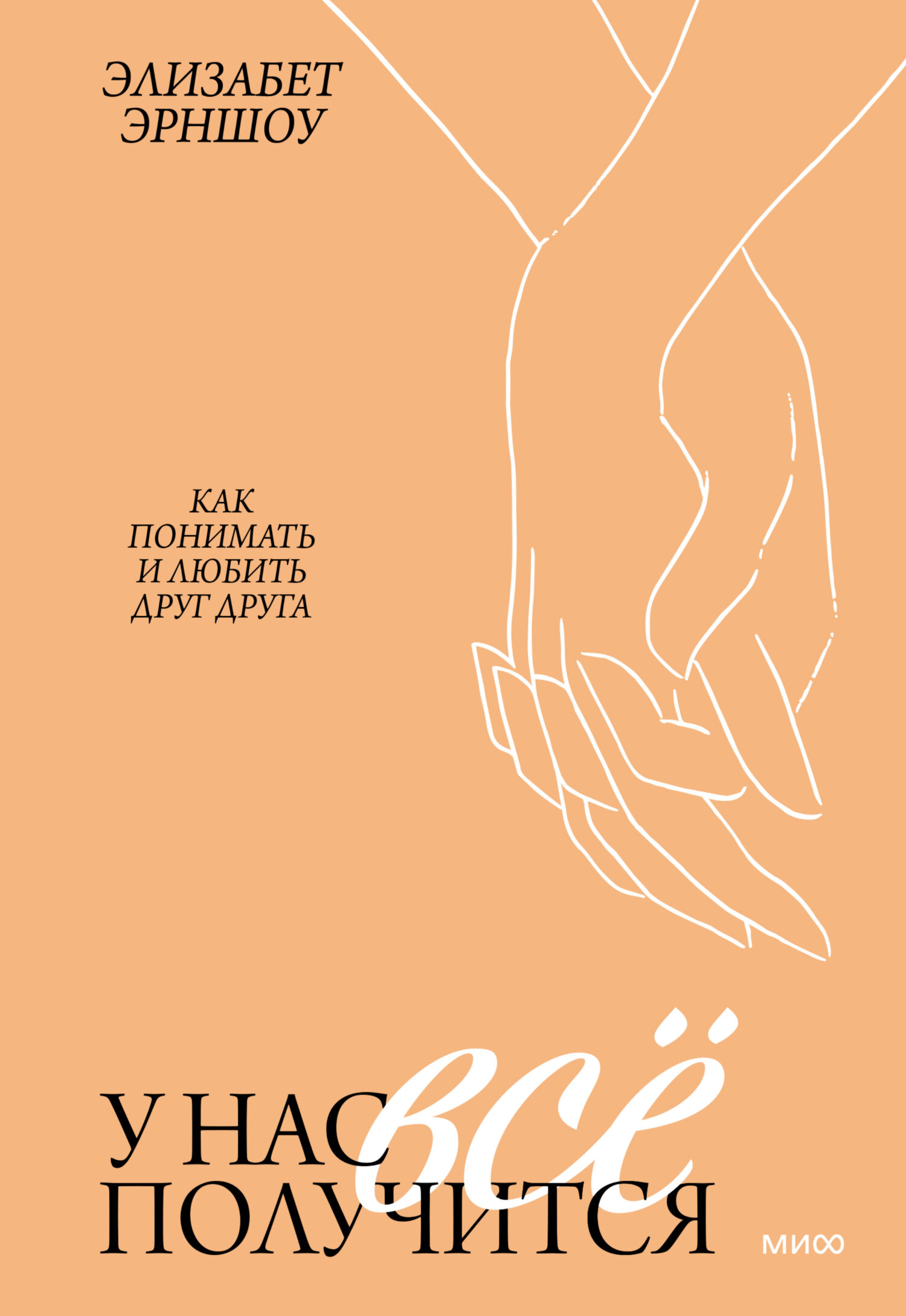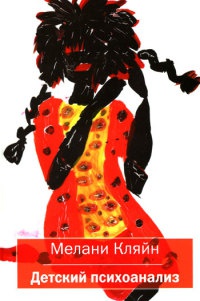времяпрепровождения, как психоанализ кино, — это цель в самой себе. Может быть, это всё просто чистая и свободная игра?
— С одной стороны, я не думаю, что цель психоанализа — это просто вылечить болезнь. Фройд часто предостерегал своих учеников, говоря «не пытайтесь никого лечить». Психоанализ намного шире, чем просто лечебная практика.
Психоанализ это не о том, как избавиться от неврозов и фобий, чем занимался горе-терапевт у фон Триера. Психоанализ — это практика самопознания. И самопознание может приносить снятие симптомов, а может и не приносить. Существует масса примеров того, что запрос, с которым пациент приходил в анализ, никуда не исчезал, но пациента это переставало беспокоить. С другой стороны, никто не отменял терапевтическую функция искусства, и встреча с экраном, со сценой или с картиной может оказаться тем субъективным событием, которое заставит выйти из воображаемой капсулы, что-то разомкнёт в тебе самом.
— Дмитрий, как практикующий психоаналитик, как Вы сами смотрите кино? С одной стороны, можно смотреть кино чисто прагматически, в плане поиска сюжета для Ваших будущих научных изысканий. А с другой стороны, можно попросту наслаждаться фильмом, забавляясь игрой цитат, разглядывая, как сделано это кино с точки зрения операторской съёмки, монтажа, наслаждаясь игрой актёров или следя за сюжетом. А может быть, не рассуждая о самом фильме, отдаться этому призрачному потоку образов. Не мешает ли Вам Ваша профессия, психоанализ, попросту любить кинематограф?
— Я наслаждаюсь психоанализом. А если принимать во внимание, что психоанализ — это наука о любви, то я могу сказать, что профессионально занимаюсь любовью к искусству и любовью к истине. Если бы я был учёный, то передо мной стояла бы цель что-то исследовать, что-то изучить, для меня во время просмотра важны собственные реакции, собственные болевые точки, которых касается тот или иной фильм, точки влечения, страсти, неприязни, негодования, скуки, про неё тоже нельзя забывать, скука — это очень любопытный аффект. Или те моменты, когда я говорю себе, что я бы снял это кино совсем иначе. Или когда я захвачен до такой степени, что начинаю плакать в кинотеатре. Вот это мне интересно.
Взгляд, обращённый на самого себя, о котором говорит Метц, зритель идентифицирует со своим собственным взглядом во время просмотра кино, для меня это наиболее интересно.
— Можно Вас попросить подытожить, ответив на два кардинальных вопроса, которые будут сформулированы в стиле хиазмы, перевёртыша: что психоанализ дал киноискусству? И, наоборот, что кинематограф дал психоаналитику в понимании человека?
— Психоанализ всячески стимулирует страсть и напряжение, которое возникает между тобой и произведением искусства, поэтому психоанализ делает кино ещё более магическим, ещё более интересным для восприятия. Например, после Жижека смотреть Хичкока гораздо интереснее. То же самое я стремлюсь делать в своём творчестве: написать про фильм так, чтобы он стал ещё сложнее и многослойнее, чем это замышлял режиссёр. Психоанализ разрешает человеку встречу с объектами реального, которые на первый взгляд могут показаться извращениями и перверсиями. Экран преподносит их нам, но мы не всегда можем принять в жизни. Любой невротик нуждается в фантазиях о перверсии. Со своей стороны, кино очень многое сказало нам о субъекте как о призраке, а также о том желании и страсти, которые ты должен практиковать как в кабинете психоаналитика, так и за съёмочной камерой.
— Прекрасным итогом было бы размышление о границах, которые, как известно, призрачны, ускользающи и неуловимы. Итак, каковы границы кинематографа в познании психики человека? И с другой стороны, переворачиваю вопрос, каковы границы психоанализа в освоении языка кинематографа?
— Чем больше мы при помощи кинематографа и психоанализа узнаём о психике, тем более бесконечной она нам кажется.
— Спасибо за диалог, Дмитрий.