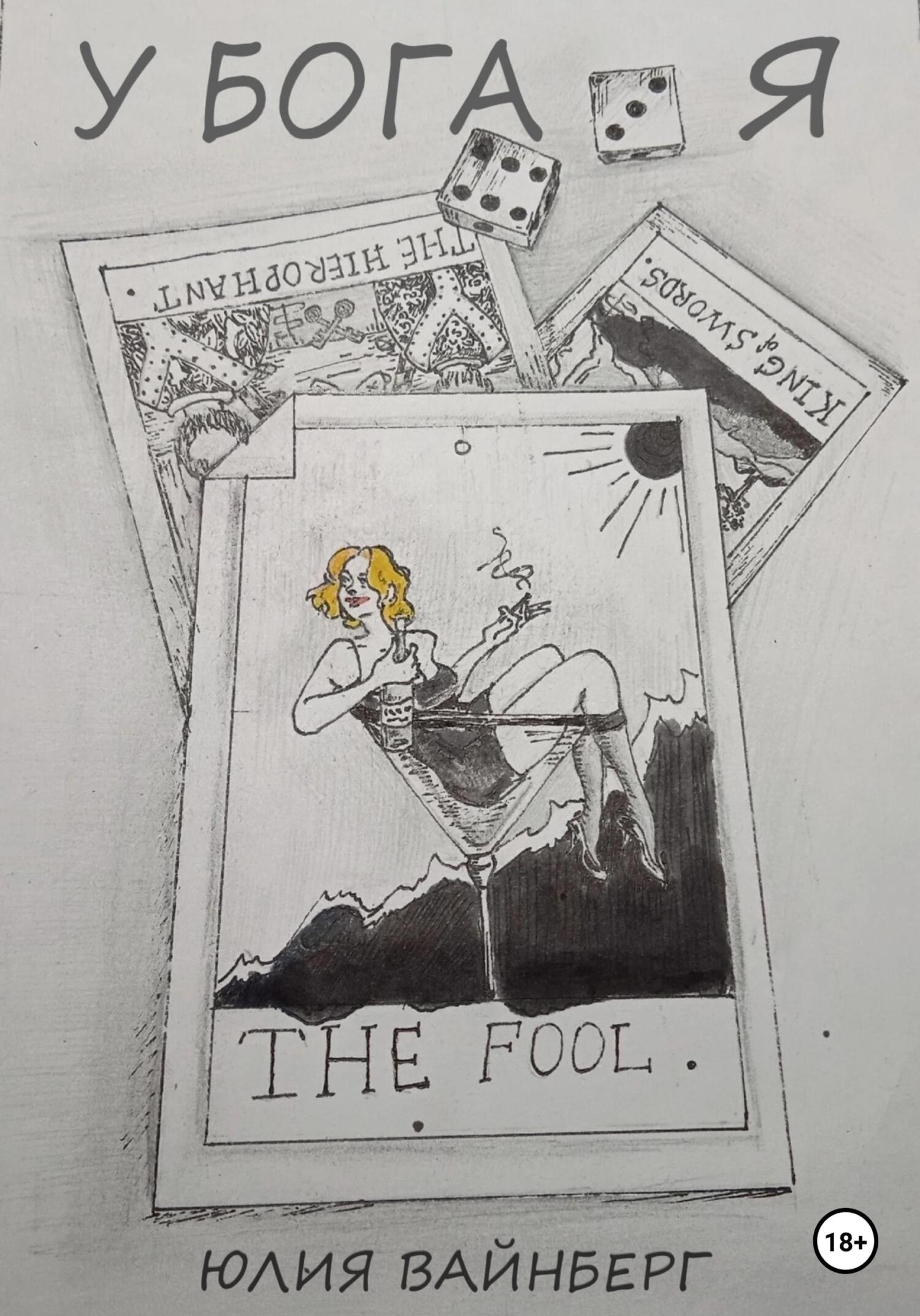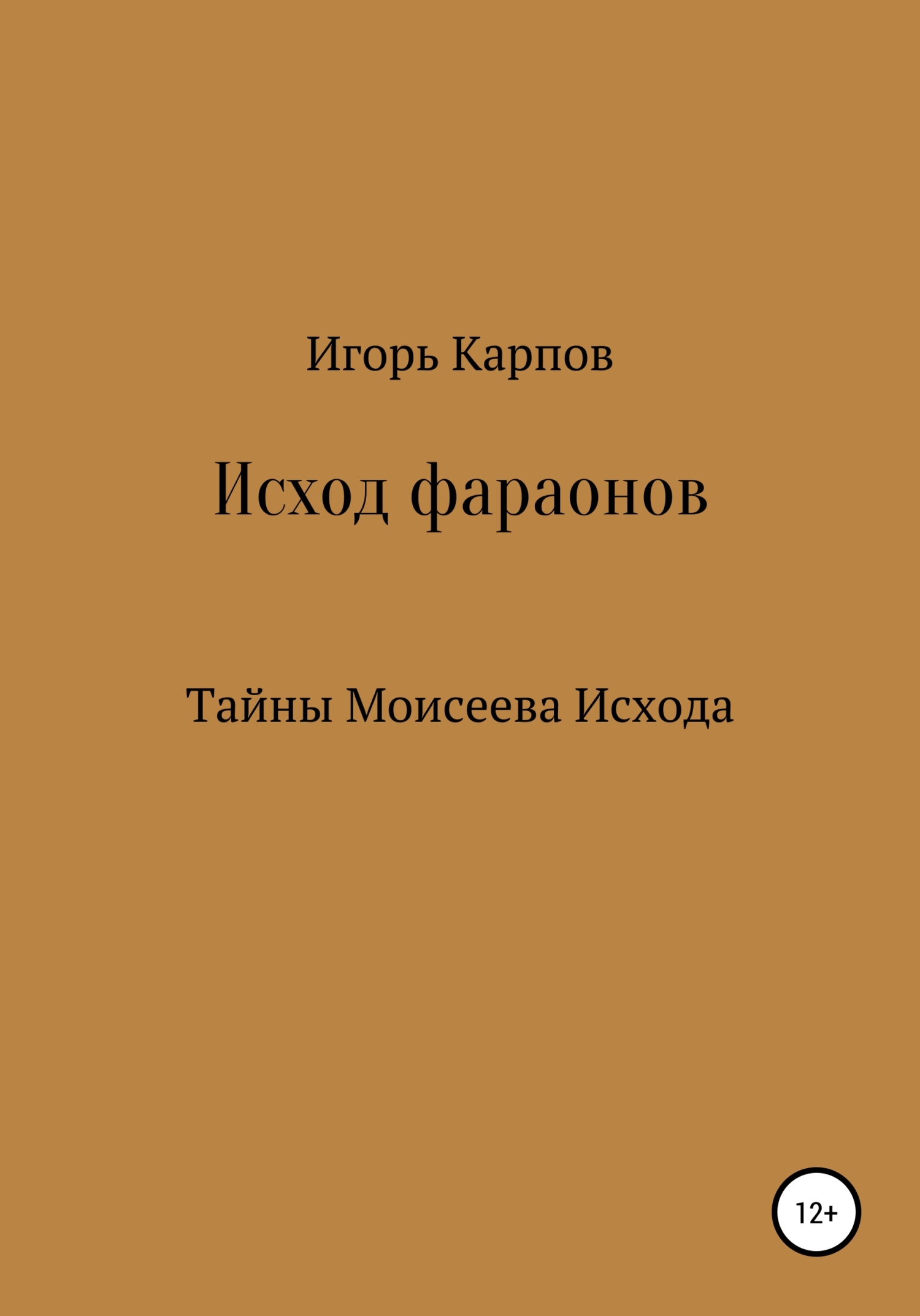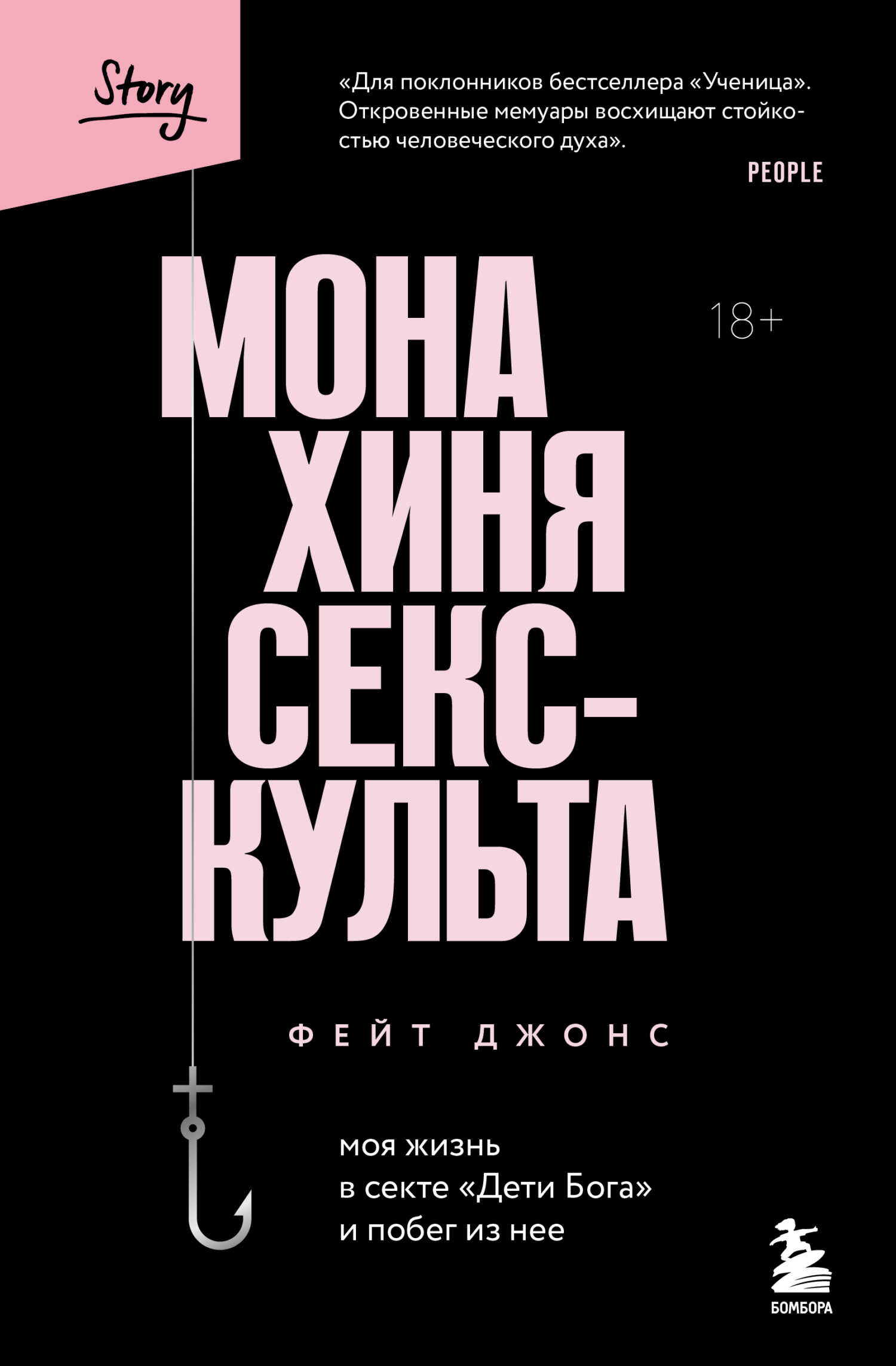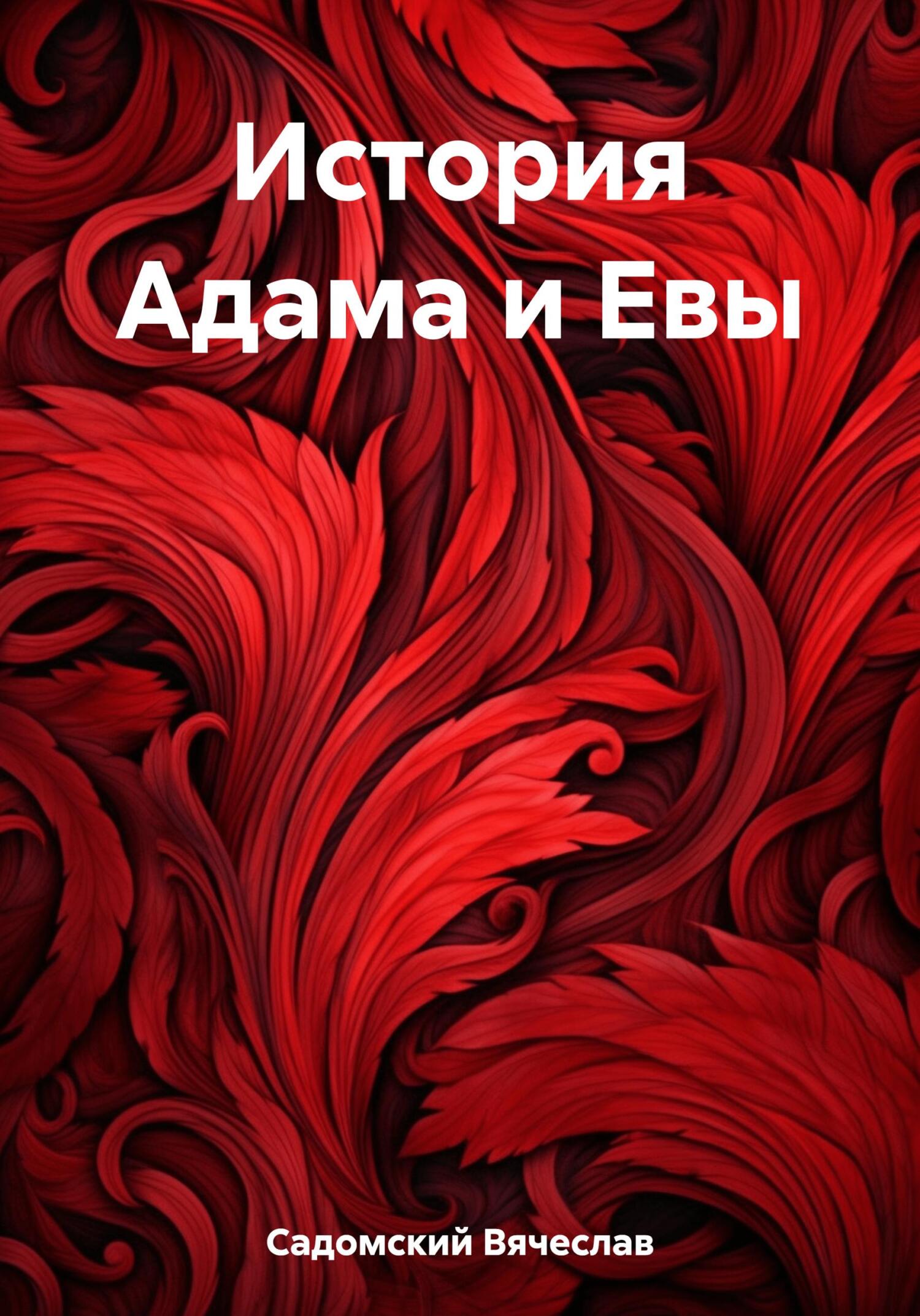обижали нас, и ничего не пропало у нас во все время, когда мы ходили с ними, быв в поле; они были для нас оградою и днем и ночью во все время, когда мы пасли стада вблизи их» (1Цар. 25:15–16).
Услышав такие положительные рекомендации, Авигаиль взялась за дело. Она немедленно собрала двести хлебов, два меха с вином, и пять овец, и пять мер сухого зерна, сто связок изюму, двести связок смокв и отправилась с этими богатыми дарами навстречу Давиду.
Завидев Давида, она пала к его ногам и произнесла следующую прочувствованную речь.
«Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на Набала; ибо каково имя его, таков и он. Набал – имя его, и безумие его с ним. А я, раба твоя, не видела слуг господина моего, которых ты присылал. И ныне, господин мой, жив Яхве и жива душа твоя, Яхве не попустит тебе идти на пролитие крови и удержит руку твою от мщения, и ныне да будут, как Набал, враги твои и злоумышляющие против господина моего. Вот эти дары, которые принесла раба твоя господину моему, чтобы дать их отрокам, служащим господину моему. Прости вину рабы твоей; Яхве непременно устроит господину моему дом твердый, ибо войны Яхве ведет господин мой, и зло не найдется в тебе во всю жизнь твою. Если восстанет человек преследовать тебя и искать души твоей, то душа господина моего будет завязана в узле жизни у Яхве Бога твоего, а душу врагов твоих бросит Он как бы пращею. И когда сделает Яхве господину моему все, что говорил о тебе доброго, и поставит тебя вождем над Израилем, то не будет это сердцу господина моего огорчением и беспокойством, что не пролил напрасно крови и сберег себя от мщения. И Яхве облагодетельствует господина моего, и вспомнишь рабу твою» (1Цар. 25:25–31).
Через десять дней после этой встречи Яхве поразил Набала, и тот умер, после чего Давид, плененный красотой и умом Авигаиль, послал к ней сватов.
Согласимся, что в том виде, в котором ее рассказывает Девтерономист, эта история выглядит настолько нелепо, что ее даже трудно пересказать с серьезным лицом. В чем заключалась «охрана пастухов», которой якобы занимался Давид? От кого он охранял их? От своей собственной шайки? Почему Набал должен был содержать разбойников Давида? С какой стати бандитская шайка, занимающаяся рэкетом окрестных пастухов, объявляется ведущей «войну Яхве»?
Давайте переведем эту историю на современный язык и поместим ее – ну, где-нибудь в Мексике. И расскажем, как глава некоей банды посылает к владельцу крупной компании с требованием денег. Тот отказывает; а жена нашего владельца собирает лучшее, едет к бандиту, падает ему в ноги и говорит, что он ведет войны Господа. Где мы? В какой антиутопии? Что это за триллер, в котором люди, которых бандит собирается грабить, падают к его ногам и называют его избранником Божиим?
Даже самый неискушенный читатель воскликнет, что Давид в этой истории выглядит обычным рэкетиром, что «защита» им пастухов Набала, за которую Давид попросил дань, ничем не отличалась от «защиты», предлагаемой бандитами российским бизнесменам в 90-х годах. Буквально все в этом рассказе оскорбляет наш здравый смысл: красавица Авигаиль, которая без ведома мужа отправляется к шайке апиру (вряд ли дама из гарема знатного человека пользовалась в то время такой свободой), смешная попытка Девтерономиста изобразить отказ от платы рэкетирам как святотатство, и особенно своевременная смерть Набала, которого якобы убил Бог, а не Давид. «Да этот Давид просто укокошил Набала и забрал его жену и имущество!» – воскликнет читатель.
Однако на самом деле история, рассказанная нам, куда более невероятна и странна. И чтобы оценить ее странность, мы должны понять ее Sitz im Leben, – ее реальный жизненный контекст.
Иудейское нагорье к югу от Иерусалима в то время было чрезвычайно малонаселено, – что, собственно, и делало его надежной базой разбойничьей шайки Давида. Общее количество его обитателей вряд ли превышало 5–6 тыс. человек. Мелких поселений вроде Маона в нем было не более двадцати. Их размер большей частью не превышал сорока соток. Жили в них не более ста человек.
Все дома в этих поселениях – в том числе и дом Набала – были построены по плану так называемого четырехкомнатного дома. Четырехкомнатный дом строился из одной длинной и узкой комнаты, к длинной части которой были пристроены три других длинных и узких комнаты. При этом средняя «комната» вовсе не была комнатой. Она была двориком, где стояла печка. Таким образом, комнат на первом этаже четырехкомнатного дома было три. Дома, скорее всего, строились в два этажа. На нижнем жил скот, а на верхнем – люди. Дома были построены так, что их внешние стена образовывали защитный периметр поселения. Это были поселения кочевников, недавно перешедших к земледелию, и они были лишены признаков социальной стратификации.
Если Набал был «большим человеком» и имел три тысячи овец, это означало, что он был главой поселения. «Царем» его, конечно, нельзя назвать, но забавно, что определение, которое Девтерономист дает Набалу, иш гадол, «большой человек», буквально соответствует меланезийскому званию «бигмена». Меланезийский «бигмен» – это лидер деревни, у которой еще нет лидеров. Он работает больше всех, координирует работу других, устраивает для жителей пиры, и они в ответ слушаются его беспрекословно, в том числе в случае войны с другой деревней.
Набал не был богач, живущий в традиционном государстве. Его имущество не защищали закон, войска и полиция. Он был недавно осевший на землю бедуин. Вокруг крошечного поселения, в котором он жил, до горизонта простирались заросли улекса и дрока, в которых не водилось никого, кроме зверей и разбойников. Пастухи Набала были одновременно и его воинами.
Иначе говоря, история Набала, в том виде, в котором она описана Девтерономистом, – это не только пропаганда, но и явный анахронизм. Девтерономист, хотя бы и против своей воли, описывает Давида как рэкетира, а Набала – как жирного и мирного богатея. И та и другая роль была невозможна в Иудейской горной пустыне X в. до н. э. – месте, где не было ни государства, ни единой нации, ни даже толком населения.
И тут, естественно, у нас возникает вопрос.
Как появилась такая странная история?
Согласитесь, – мы легко могли бы понять, если бы перед нами была неуклюжая апология, написанная при дворе Давида или его сына. И решительно всем в окружении царя было бы известно, что Давид двадцать лет назад занимался рэкетом, и царя надо было бы от этого отмазать.
Но в том-то и