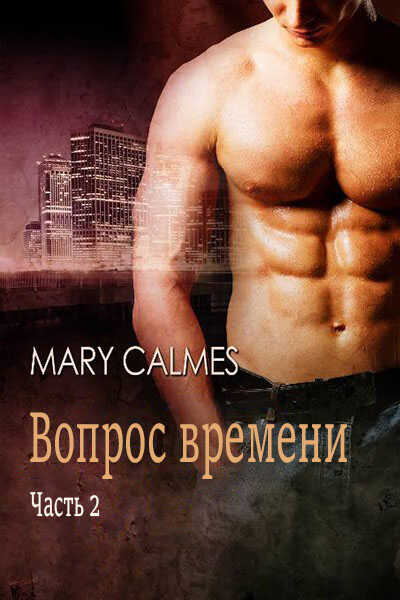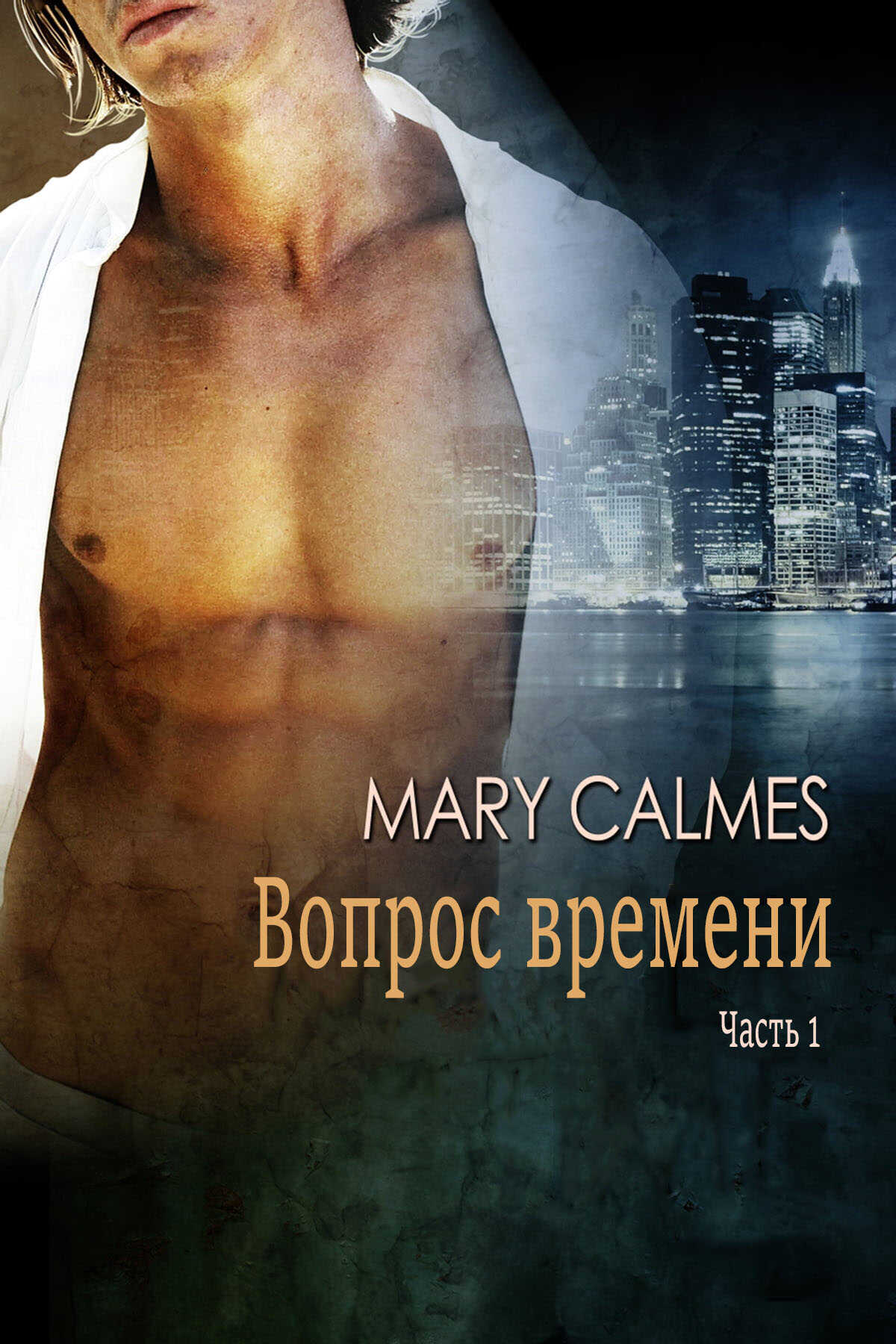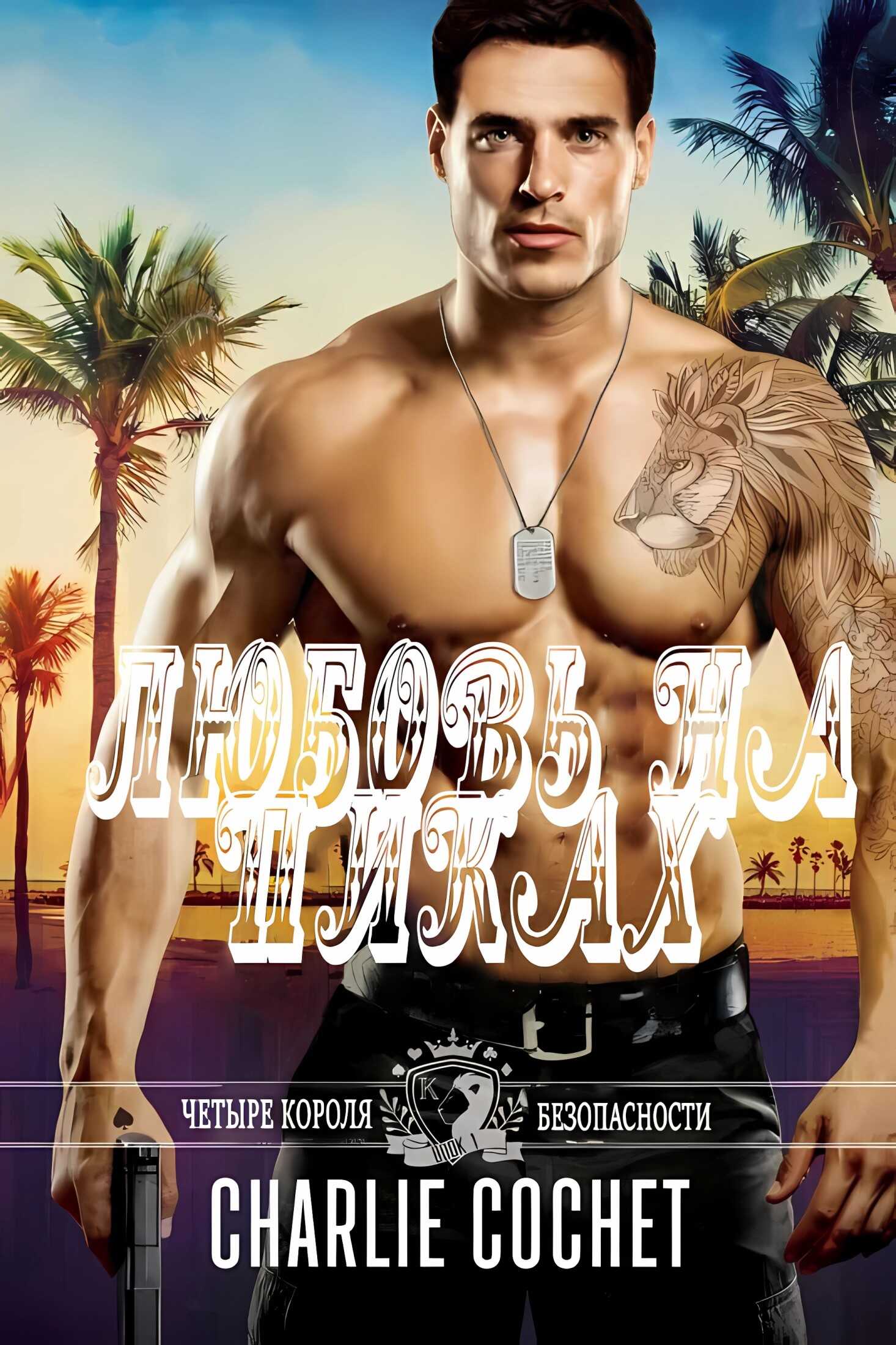клумбам, только Калякин был не лыком шит, он уже настроился на сумасшедший вечерний секс. Он шагнул к банкирше и придержал за руку.
— Эй! Что, даже на чай не пригласишь?
Лицо тётки исказилось возмущением, она резко отдёрнула руку.
— Во-первых, не «эй»! Побольше уважения! А, во-вторых, проваливай отсюда. С ровесницами так разговаривать будешь.
— Так ты что, обиделась, Ларисочка? Я же со всем уважением. Ты мне понравилась. В глуши скучно, а мы вдвоём могли бы… а? Я же паренёк горячий, с фантазией…
Она не дослушала.
— Убирайся! Пока я тёте Нюре не позвонила и не рассказала, каких друзей её внук…
Кирилл тоже не дослушал. Ярость отказа и наглого обращения с ним, депутатским сыном, затмила крупицы разума, он захохотал.
— Давай, звони. Эта Пашкина бабка как раз про тебя рассказала, что ты с пидором из того дома, — он указал рукой налево, — трахаешься. Деньги ему платишь за каждое осеменение. Тупая пизда! Я же к тебе по-хорошему! Перед одним ноги раздвигаешь, так… Так я опытней его, я баб за свою жизнь перетрахал!.. Тебе понравится, визжать от удовольствия будешь…
— Убирайся, — ледяным голосом проговорила бледная, как её шорты, банкирша. — Убирайся, подонок малолетний, или я сейчас ментов вызову.
Под убийственным взглядом у Калякина слова застряли в горле. Было ясно, что обещание тётка выполнит, и некстати вспомнилось, что она банкирша из райцентра, его отец областной депутат, она может дать ход делу, а отцу огласка не понравится, скандал попадет в СМИ и тогда гасите свет…
— Хорошо, я уйду, — сказал Кирилл и ретировался за калитку. С поражением не смирился, затаил злобу.
7
Шёл девятый час вечера, а Пашка Машнов не возвращался. Кирилл мучился бездельем. Телевизор надоел, с институтскими приятелями по телефону наболтался, малина в саду оказалась червивой, яблоки не созрели. Мысли постоянно крутились вокруг банковской суки и желания отомстить ей за отказ. Правильным было бы нассать ей под дверь или проколоть шины кроссовера, разбить стекло, или, может, написать краской на заборе — или на «Опеле», — что она шлюха.
Калякин стоял на веранде, курил и думал над новыми способами мести. Осуществлять их прямо сейчас он не собирался, и вовсе не потому, что «это блюдо подают холодным». Он трусил. Боялся последствий. Поцарапать машину доставило бы ему несказанное удовольствие, но разбираться дальше с ментами он боялся: кто знает насколько влиятельна банкирская сука в этом зачуханном районе области.
Где-то истошно закричал младенец. Должно быть дурная мамаша, залетевшая от алкаша…
Кирилл опомнился: какие младенцы в глухой деревне? Что же тогда?
Крик повторился, на этот раз ближе и в другой тональности. Теперь до Кирилла дошло — сцепились кошки, их драчливое мяуканье похоже на плач ребёнка.
Кошки опять заорали. Калякин спустился с веранды, вышел на улицу, чтобы хоть как-то развлечься. Подобрал камень у дороги и швырнул в кусты сирени между домами, из которых доносились утробное шипение и зычный мяв. Снаряд прошелестел по листве, сбивая с неё пыль, и шмякнулся в глубине зарослей. Мгновенье спустя из сирени выскочили две кошки, обе серо-полосатые, как близнецы, и, задрав хвосты, бросились наутёк.
— Кыш! — подогнал их Калякин и для пущего эффекта звонко захлопал в ладоши. — Кыш, сволочи! Кыш!
За спиной трубно замычала корова. Корова… да!
Мозг Калякина заработал в верном направлении. Если нельзя достать банкиршу, можно докопаться до её дружка. Пастуха точно некому защитить.
Предвкушая веселье, Кирилл развернулся на сто восемьдесят градусов и увидел свою жертву. Селянин вёл корову с выпаса, уже сворачивал к дому. Тощие коленки снова были голыми, но на плечи он набросил ветровку. Парень старательно не замечал стоявшего посреди дороги приезжего.
Кирилл отмахнулся от мух и пошёл в дом за олимпийкой, так как небо незаметно затянули тучи, похолодало. В доме, душном и вонючем, он безрезультатно попытался дозвониться Пашке, смочил горло остатками утреннего чая, а потом с радостью убрался на свежий воздух.
Из-за туч на улице сильно потемнело, вместо приятного розовато-золотистого оттенка на деревню опустилась мрачная серость. Лаяли собаки, высоко над головой гудел невидимый самолёт. Коренному горожанину это почти абсолютное безмолвие с птичьими криками, вьющимися комарами казалось почти нереальным, как картинка из чёрно-белого советского фильма про жизнерадостных колхозниц, и вместе с тем было в нём нечто домашнее. Поэтому Кирилл чувствовал вседозволенность, ведь по дому можно ходить голяком, свинячить, заниматься хуйнёй, не оглядываясь на чужое мнение и общественные нормы, и никто тебя за это не накажет.
Калитку на усадьбу пидора он открыл без стеснения. Двор был большим и в отличие от Пашкиного выкошенным, правда и хлама вдоль забора, гаража и деревянных сараюшек хватало — покрышки, старые чугунки, тазы, ржавые трубы, велосипед без колеса, строительный мусор, груда грязного песка, сломанные игрушки. К этому прилагались забетонированные дорожки, открытая беседка, кусты красной смородины, вольер для собаки. В целом впечатление создавалось хорошее, как говорится, бедно, но чисто.
Во дворе было пусто, в доме свет не горел.
— Эй! — позвал Калякин. Ему никто не ответил, зато где-то за домом замычала корова и, вроде бы, послышался мужской успокаивающий голос. Вероятно, пастушонок разговаривал со скотиной.
Кирилл нагло прошёл через двор, наткнулся ещё на одну калитку с противоположной стороны опоясывающего двор и дом забора. За ней увидел плодовые деревья, часть огорода, лужайку с мангалом и капитальный кирпичный сарай с тремя дверями. Проход одной двери загораживала сетка с мелкими ячейками, вторая была закрыта, из-за неё доносились неясные звуки, похожие на… — мозг Калякина с трудом их идентифицировал, — на похрюкивание. А за третьей дверью мычала корова. Тихо мычала. Словно ворковала.
— Сейчас, Зорька, сейчас, потерпи, — тихо приговаривал пидорок, чем-то грякая, разливая воду, топая по деревянному настилу. — Сейчас помою тебя и подою. Вот. Вот так, моя хорошая. Ещё немножко… Терпи. Вот так.
Потом он замолчал, грякнуло по полу ведро, и раздались звуки, как будто бы кто-то в это ведро ссыт с интервалами — тугие струи бились о металлические стенки и дно. Дойка началась. Кирилл решил на это посмотреть.
У двери коровника в нос ударил запах навоза. Кирилл скосоротился, закрыл нос рукавом олимпийки и ступил на порог.
— Приветики, — сказал он совсем недружелюбно, с ухмылочкой. Кроме вони, в низком помещении, разделённом перегородкой на две части, было достаточно темно, свет почти не проникал через пыльный прямоугольник окна под потолком, а в единственной малость облепленной паутиной лампочке советского образца было от силы ватт семьдесят. Под этой лампочкой и стояла, слабо помахивая хвостом, пёстрая Зорька, а поперёк её туловища на самодельной табуреточке сидел хозяин и дёргал за соски