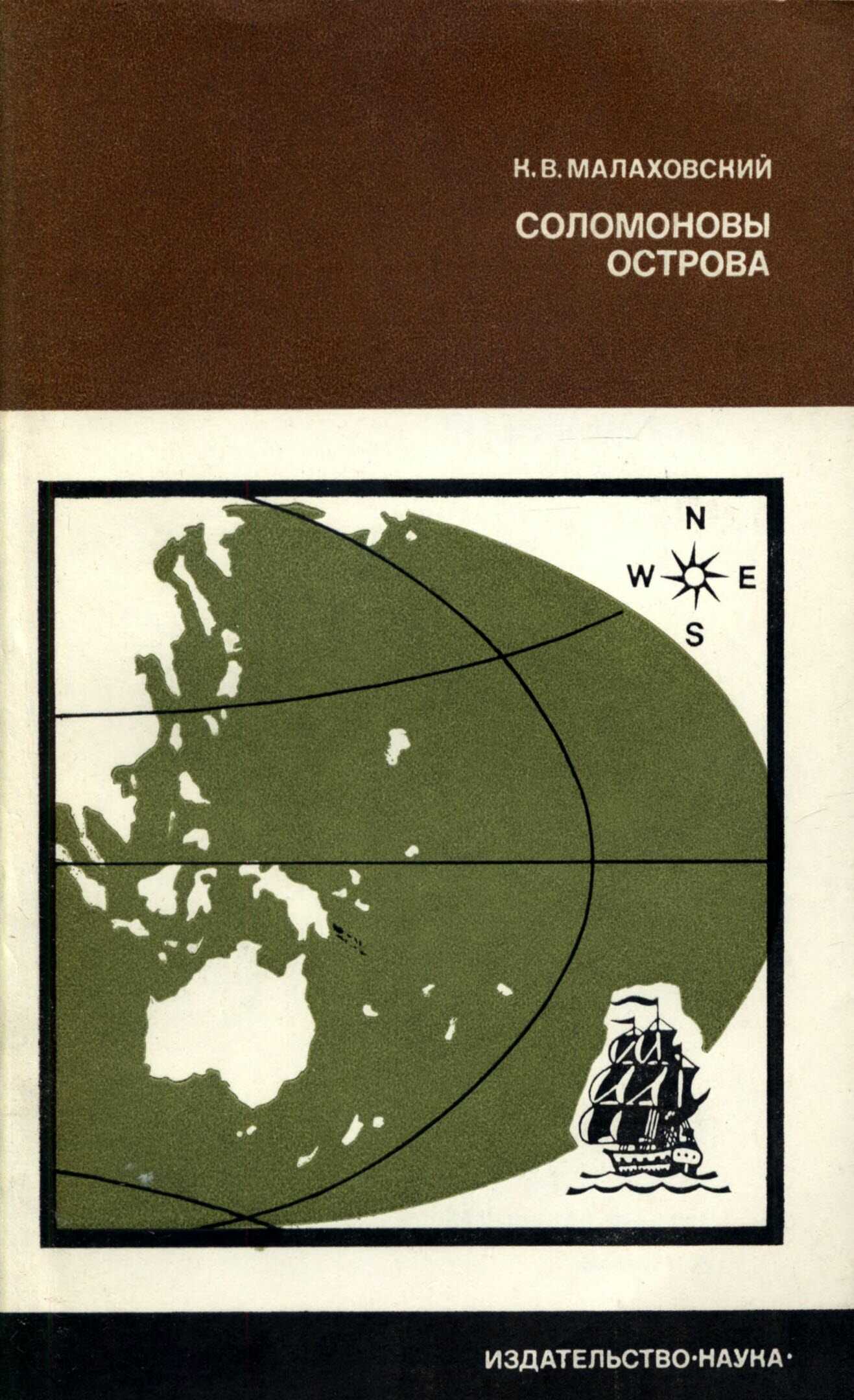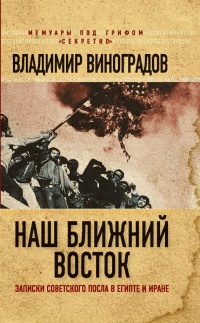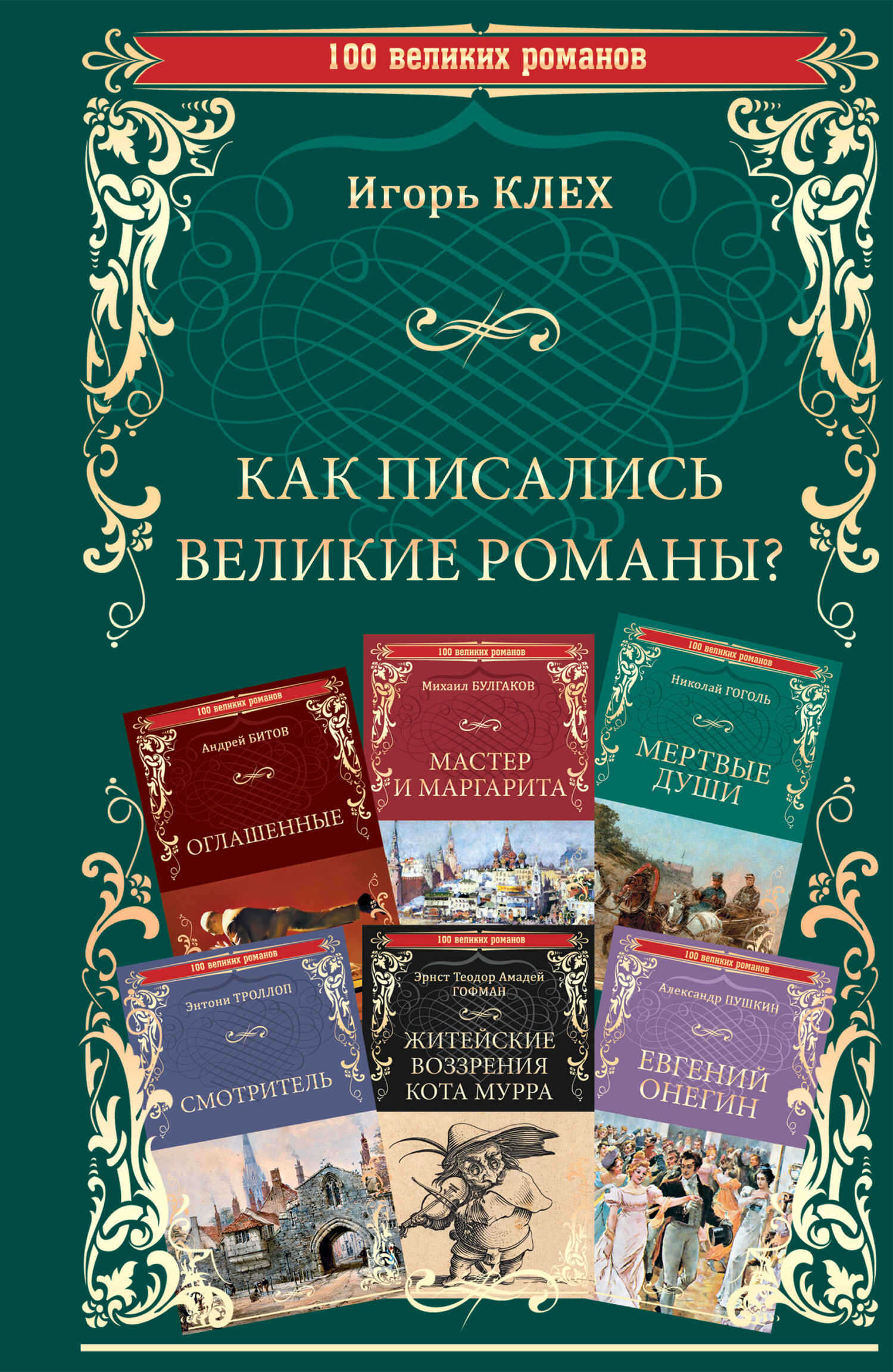ней из моря в бухте среди скал. «Что же ты, сынок? — спросила мама. — Зачем ты ушел? Ведь Паша тебя так любил…» Вместо ответа он показал ей часы на своей руке. У них был зеленый циферблат без стрелок. Понятия не имею, что это значит…
* Здесь и далее — стихи С. Стеблина
Фото некоторых работ Сергея Стеблина можно посмотреть здесь:
https://kartini-steblin.livejournal.com/338.html
Азат Миннекаев. Стоит ли будить духов?
Выставка художника Азата Миннекаева «Метаморфоза бубна» открылась в Государственном музее истории религии.
Пение — не пение: звуки прибоя, крики чаек, лесные шорохи, свист охотничьей стрелы. Танец — не танец: покачивание деревьев под ветром, снующие движения зверьков, плавник большой рыбы, рассекающий воду. Человек, растворенный в природе… Одушевленная природа… Выступление фольклорного ансамбля «Северное сияние» предваряло открытие выставки. Юные студенты, будущие ученые, с помощью больших бубнов яраров и чукотского горлохрипения на открытии выставки демонстрировали жизнеспособность традиционного искусства своих народов.
Начало было как нельзя более удачным. Азат Миннекаев жил и на Чукотке, и на Аляске, собирается на Алтай — центр мирового шаманизма. Художник погружен в ветхий духовный мир старых народов, живущих в состояние равновесия с природой, называемом в науке гомеостазом. Его прекрасные картины висят среди подлинных инструментов шаманизма из фондов музея — бубнов, изображений духов, магического оружия.
Художник начинал с кукол для театра. «Куклы ведь не просто куклы», — говорит он. Правильно, первоначально они тоже были магическими предметами. Однажды Азату довелось участвовать в театральном проекте в Магадане:
— Я столкнулся там с другими цветами в природе, с другим строем жизни. И меня разобрало, — говорит он.
Потом были шесть месяцев на Аляске, по приглашению губернатора острова Сент-Пол. Там живут алеуты, давно воспринявшие от русских миссионеров православие:
— Они стоят все службы, — рассказывает художник, — почти все знают богослужение на церковно-славянском, хотя между собой общаются по-английски. Я дружил с их священником, отцом Георгием. Он эскимос.
Как видно, благочестие не мешает алеутам хранить старую веру. Впрочем, по поводу того, является ли шаманизм религией, в науке спорят давно. Те же алеуты верят в абсолютного Творца — первобытный монотеизм (поэтому они так легко восприняли христианство). Но верят они и в духов. Впрочем, вера здесь не главное — христианин тоже должен верить в духов, но не должен с ними общаться. А шаманизм и есть система этикета при общении с потусторонними силами. Сами духи выбирают шамана, не спрашивая согласия. В мучениях шаманской болезни рождается он и несет этот груз пожизненно.
А бубен — не только музыкальный инструмент. Это транспорт, с помощью которого шаман путешествует по мрачному потустороннему миру. Бубен — мембрана между мирами, сквозь которую проходит он, чтобы обрести силу в нашем мире.
Для Азата Миннекаева его картины — тоже бубен. Ударами кисти по натянутому полотну он вызывает духов, и они пребывают вокруг его полотен. «Учитель танца» — дух в виде птицы, а ученик — шаман в маске. Здесь нет ничего человеческого, лишь буйство первозданной природы, сложный хоровод жизни-смерти. Как и в «Охоте гурхана», где люди, лошади и звери вечно вращаются в Великом Колесе. «Хозяин солнца» — ослепительный круг опрокинул в космос великий шаман с пристальным и отрешенным взглядом. «Праздник ворона» — обнаженная женщина растворяется в огромной темной птице. Эротика смерти.
Все это про смерть. «Полет в страну мертвых», «Похороны вождя»… И даже гротескный сюжет «Вечного сабантуя» (на родном для художника татарском материале) — тоже содержит memento mori. Бег с яйцом в мешках. Человек спотыкается и летит в никуда — вслед за яйцом, которое символ жизни…
— Азат, — спросил я его, — в ваших картинах сила и вы знаете, о чем я говорю.
— Конечно, знаю, — ответил он, — но всем про это не рассказываю.
— А вы не боитесь, что эта сила причинит вам вред? Ведь вы не шаман.
— Мне сказали, что я могу это делать. Можно сказать, благословили…
Мусульманин Азат считает, что имеет дело с добрыми силами. Не знаю… Я работал в Красноярском музее, обладающем богатейшими коллекциями по сибирскому шаманизму. Как-то музейный этнограф и археолог взял в запасниках старый бубен и стал в него тихонько бить — надо сказать, довольно умело. Вдруг что-то сделалось не так — пришло ощущение некоего присутствия, чуждого и очень сильного. Лицо молодого ученого исказил страх, он осторожно положил инструмент:
«Не надо, — сказал он, будто самому себе, — нельзя будить духов…».
Я чувствовал это и в Иркутском музее, среди огромного количества вещей, в которых аккумулирована древняя — и недобрая — сила. И это же давление извне я испытываю в Египетском зале Эрмитажа, среди саркофагов, мумий и жестоких идолов. Носители этой силы существуют и следят за нами, их взгляд пристален и холоден.
Древнее и темное, как сам этот грешный мир, истекает с полотен Азата Миннекаева. Хозяин подземного мира Эрлик проносится по своему мрачному царству. Мы смотрим на духов, они на нас, а между нами — художник. Спаси его Бог!
Сайт Азата Миннекаева: http://www.azat-minnekaev.narod.ru/
Джонатан Свифт и Даниэль Дефо. Гулливер против Робинзона
Истории ничего не известно о том, сталкивались ли лично два великих английских литератора конца XVII — начала XVIII века. Это вероятно: вращались-то они в одних кругах и занимались одним делом. Можно не сомневаться, что оба прекрасно знали творчество друг друга. И хотя Джонатан Свифт как-то презрительно бросил в адрес Даниэля Дефо: «Запамятовал я его имя», во многих его произведениях очевидна полемика с идеями «ноунейма». И наоборот.
Но вот по положению в обществе и по характеру эти двое довольно-таки различались. Спроси сейчас человека, освоившего школьный курс истории и литературы о том, кто они были такие, тот, не задумываясь, ответит: «Писатели, Дефо — автор „Робинзона Крузо“, Свифт — „Путешествий Гулливера“». Однако оба, скорее всего, осознавали себя писателями в последнюю очередь. Свифт был ученым священником — абсолютно внятный статус в то время, и самые главные изменения его жизни заключались в смене приходов. А Дефо, побывавший бизнесменом, политиком, скандальным журналистом и шпионом, полагал себя просто джентльменом.
Это определение — в том значении, в каком оно несколько раньше появилось в Британии — означает не обязательно высокородного, но состоятельного, деятельного и всецело преданного своей стране мужчину. А когда нужно — коварного, изворотливого и твердого, вплоть до холодной жестокости. Этот образ на века стал идеалом, к которому стремились и которому подражали, в том числе и Дефо.
А вот Свифту не надо было к