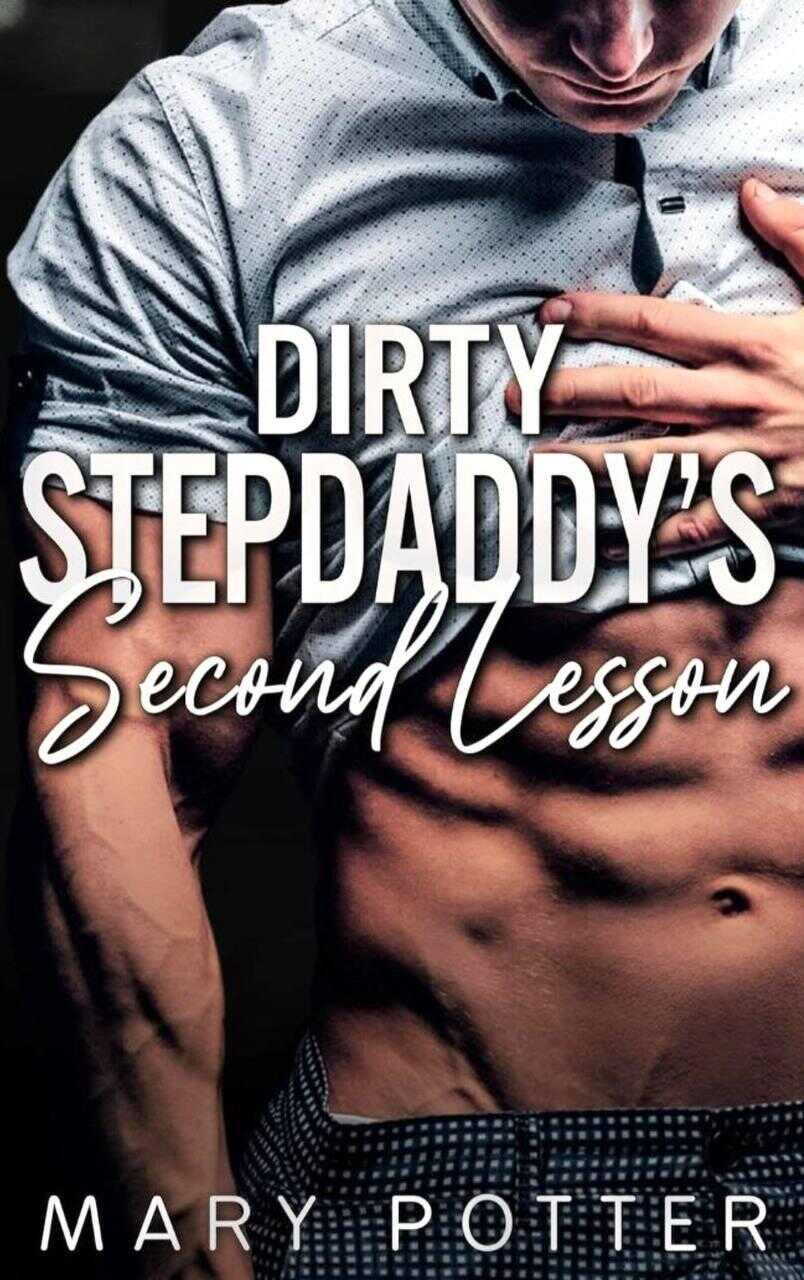и русые пряди зажили своей жизнью, играя в зеленоватых потоках.
Иван старался не пялиться на сдобные стати русалки, кои она нарочно выставила из воды напоказ. «Хитры, свирепы, опасны, — говорилось о водяницах в старом трактате-наречении. — До мужского полу охочи, однако бойся лукавых русалочьих чар, вдольский витязь, ибо расплата за грех – смерть твоя».
Левецкий задумчиво догрызал травинку. Не ему начинать разговор. Русалка знает, что провинилась. Пусть она и начинает.
— Не иначе как вдольский князь к нам пожаловал, — пропела водяница, наклонив голову к пухлому плечику. — Красив, молод, статен… Глаза, как вода в омуте, бездонны… зелены. Искупайся со мной, княжич. Лету конец, когда еще доведется наныряться, наплаваться. Придет стужа, скует льдом водные просторы.
«влюбится в русалку, но еще хуже, если утопленница сама сделается им одержима со всей своей блудливой страстью».
Иван усмехнулся, выплюнул травинку и спросил:
— Ты ли Аксаша?
Русалка сложила губы бантиком:
— Была Аксашей, пока не утопла. Давно это было. Можешь звать меня, как душе пожелается. Мне все равно.
— Да неужто так и все? — Левецкий покачал головой, уселся поудобнее, скрестив ноги. — Не ты ли, Аксашенька, третьего дня коляску с помещиком Лопушкиным на мосту перевернула? Взвизгнула, крикнула, взвыла по-волчьи… что вы там еще делаете, чтоб коней напугать? Родион Дементьич чуть в воду не вывалился, в самый омут. Хорошо, не пострадал особо, шишку набил. Тебя наказать требует.
— А, вот за чем ты явился, — русалка погрустнела, вздохнула. — А я думала, в гости.
— Ага, и поплавать тут с тобой… на самое дно. Ты такое с Лопушкиным сотворить хотела? Душу выпить, тело под корягу пристроить, чтоб не всплыло?
С реки вдруг потянуло холодом, русалка исказилась лицом и отпрянула от берега. Ударила хвостом, с головой окатив Ивана ледяной водой. Красота ее внезапно куда-то сгинула: на голом черепе повисли остатки волос, гнилая плоть обнажила зубы.
Креститься при тварях поперечных Кодексом Равновесия было не рекомендовано, «дабы не потерять доверия оных», и Иван быстро сотворил вдольский оберег – накрыл себя ладонью вдоль тела и над макушкой, будто радугой.
Сделал он это совершенно машинально. Может и прав был дед, говоря, что посредничество у Левецких в крови.
— А пусть бы и свалился твой Родион Дементьич, — прошипела Аксаша. — Но я б его не сразу души лишила. Сначала напомнила бы, как он меня в мою брачную ночь снасильничал, как жениха мого розгами до смерти забили… Побывал бы в моей шкуре, утопленником. Костей не сыскать, вечной муки не миновать!
— Дура! — с досадой крикнул Иван, вскочив и отряхиваясь. — Тот Родион Дементьич почитай век назад помер. Этот Родион Дементьич – потомок его, правнук! Вечно вы, нечисть, во временах теряетесь! Явь с Навью путаете!
Русалка смотрела на князя недоверчиво, насупившись, волнуя воду хвостом. К ней постепенно возвращался приятный глазу вид, однако и тот, мертвый, запечатлелся у Ивана в памяти.
— Где кости твои лежат? — осведомился он, вытирая лицо от брызг подолом, что было бесполезно, потому как дорогая, голландского сукна рубашка сама спереди основательно промокла. И легкий, аглицкого покроя пиджак тоже пропитался водой. — Тьфу, нечистая сила, облила всего, хоть выжимай!
— А ты меня не накажешь, княжич? — Аксаша глядела исподлобья, хмуро. — Не накажешь ведь. Старый вдольский князь пока Приречьем правит, не ты.
— Не я, — согласился Иван, перебравшись на место посуше, под солнце. — Но если еще раз подобный фокус повторишь, попрошу у деда полномочия и казню тебя по законам Равновесия. Если бы Лопушкин погиб, не дай Творец, уже казнил бы.
— Развоплотишь? — ахнула русалка. — Рука не поднимется!
— Отчего же не поднимется? Ты разве знаешь меня? — Левецкий говорил спокойно, серьезно. И вправду развоплотил бы, дай старший Левецкий такой приказ. Таково наказание за нарушение Договора. — Я не дед – церемонии не по мне. Имею право как представитель правящего вдольского князя. Отстанешь от Лопушкина, извинишься, – забуду провинность. Покажешь, где кости твои – похороню их по святому закону. Все для вас, мадам.
— За церковной оградой закопаешь, — обиженно скривилась Аксаша. — Как утопленницу. В чем мне от этого прок?
— Дура, — повторил Иван, чувствуя, как холодит мокрую спину осенний ветерок. Пиджак он снял, но это мало помогло. Не хватало еще простудиться, когда столько дел впереди. — Прошли те времена, когда утопленников за оградой хоронили. Нынче в России семь государственных религий, какая не подходит – выбирай другую. Упокоишься. Прощения, разумеется, у Творца испросишь, за самовольно отнятую у себя жизнь.
Истинная нечисть вечно плакалась, что в Поперечном царстве ей тяжко, однако в Навь посмертную и Творца чертоги не стремилось, пусть даже с перспективой родиться вновь человеком.
— Подумаю, — проворчала Аксаша, надменно скрестив руки. — А ты, княжич, почаще оглядывайся.
— Угрожаешь? — изумился Иван.
— Услугу оказываю – предупреждаю, — русалка покачала головой. И вправду, угрозы в ее голосе не было. — С нечистью местной воевать ты готов, вижу. А ты сразись с тем злом, что в яблоневом доме след оставило.
— С каким еще злом? В каком-таком доме?
Иван почему-то обернулся, будто зло уже стояло за его спиной, а когда посмотрел на реку, водяницы и след простыл.
***
В залитом солнцем доме все ночные страхи казались нереальными. Трудно было поверить, что в полном теплого света особнячке завелись нечто недоброе.
Самое время было осмотреть хозяйственный двор. Рачительная Маша с грустью обошла его, находя свидетельства о былом процветании имения.
Вот летняя кухня, в которой так и висят на стене покрытые паутиной рушники с мордовской вышивкой, а на столах стопками – доски для вареных пирожков, иначе вареников, со всякой, иногда весьма неожиданной начинкой.
Вон курятники со свинарниками. И коровник, чтобы хозяевам с утра подавались к завтраку парное молоко, сливочки, сметана и свежее желтое масло. И вот уж все пустое стоит, со следами обитания мелкой нечисти. Да и та по привычке, видно, доживает. Что делать тут мелкому паразиту удойнику, коли коровы нет?
Маша поднялась на пригорок и глянула вдаль. Владения ее предков когда-то простирались вокруг на шестьсот десятин. Как рассказывал в поезде поверенный Федор Терентьевич, земли после Реформы продано было мало, прадед Маши Александр Евгеньевич пояс затянул,