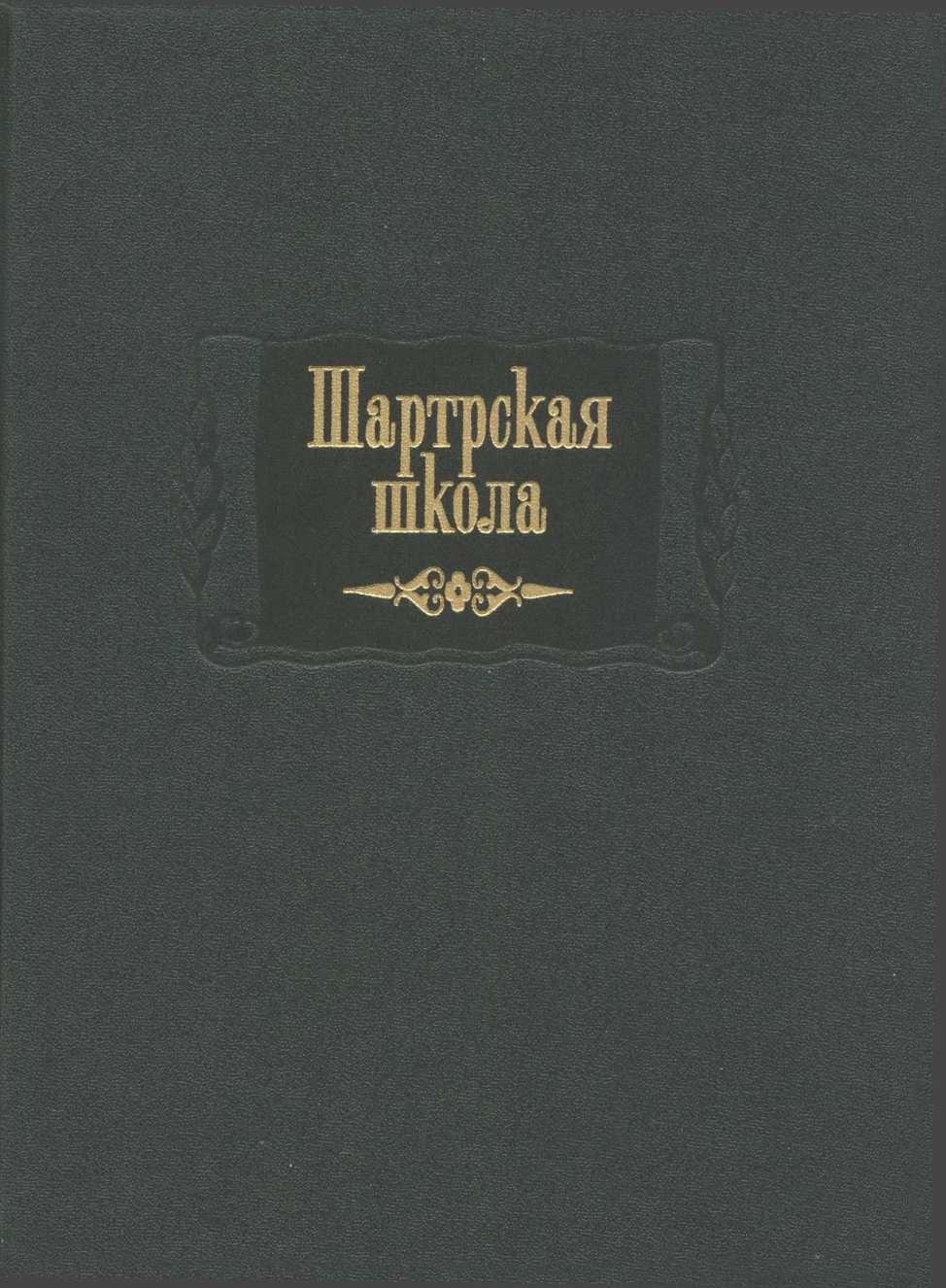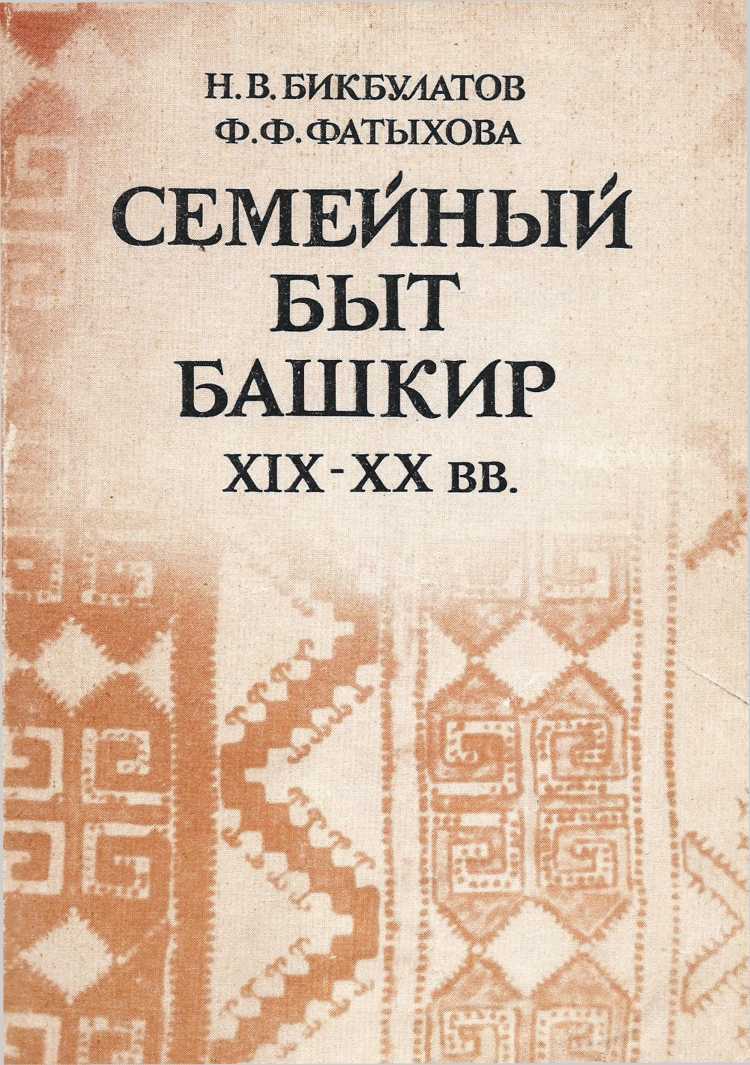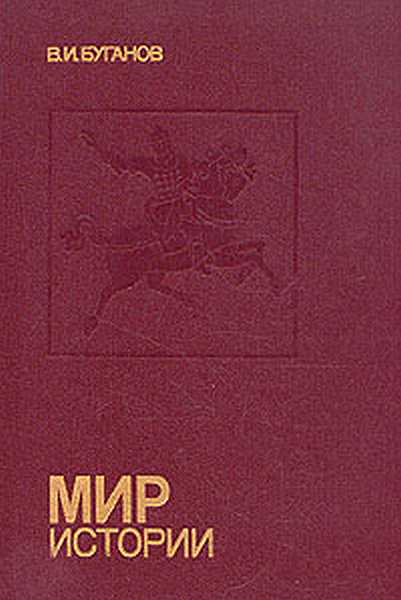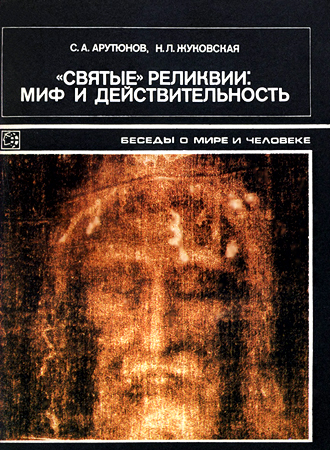как видимые формы европейского, а следовательно, желанного судоустройства.
Ответом на притязания элит на участие в «законоположении» стало усиление (посредством разных новаций) видимой законности самодержавного правления. Ее основанием объявлялась традиционалистская легитимность законного порядка. Составленный Вторым отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии Свод законов провозглашался средоточием мудрости всех прежних законов, вышедших после Соборного уложения 1649 года и как бы продолжавших его. Представляя Свод в Государственном совете, император особо подчеркнул: «Свод не создает законов новых, а приводит в порядок старые». Эта фраза надолго стала своеобразным определением Свода, общим местом, без которого не обходится ни одно его описание в литературе[70].
Анализ материалов работ по составлению Свода показывает, что создание впечатления о «традиционности» Свода было одной из задач, которую осознавали кодификаторы. Работа над ней активизировалась на заключительном этапе его составления, перед тем как Свод поступил в специально созданные в министерствах ревизионные комитеты на проверку. Главные редакторы, М. А. Балугьянский и М. М. Сперанский, предприняли особые усилия для того, чтобы не возникало никаких сомнений в том, что положения Свода базируются на исконном российском законодательстве. Так, инструкция от 21 февраля 1831 года предписывала сотрудникам «держаться слов» закона-первоисточника, исправляя его только в исключительных случаях[71]. При этом начальная инструкция, на основании которой составлялись тома Свода, напротив, допускала более вольное обращение с источниками[72]. Более того, известно, что, обнаружив пробелы в законодательстве, кодификаторы стимулировали разработку соответствующих постановлений, которые потом вносили в Свод[73]. Поэтому вопреки декларациям Сперанского о том, что Свод не привносил ничего нового, а только систематизировал старое[74], на деле было не так[75]. Как показали юристы уже в конце XIX века, в Свод вошли разнообразные законодательные новации, особенно в части гражданского права, где легко узнавались формулировки из Кодекса Наполеона[76]. Но публике, повторим, Свод был представлен как освященный веками кодекс российского права – под каждой его статьей приводились ссылки на законодательные источники прошлого.
Вторым, гораздо более заметным ответом на законодательные притязания образованных подданных стало институциональное упрочение самодержавной власти как гаранта законности. В 1826 году были созданы Второе и Третье отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, ставшие двумя столпами николаевского «образа законодательства». Чтобы гарантировать следование букве закона на местах, Второе отделение рассылало во все присутственные места Российской империи книги Свода законов и Продолжения к нему. На сотрудников Третьего отделения была возложена задача усиления законного порядка и выявления всевозможных нарушений путем тайного наблюдения[77]. Должностная инструкция предписывала жандармам быть «блюстителями общественной нравственности; от имени государства и для блага государства обеспечивать тишину, порядок, подчинение старшим и благочиние»[78].
Конституция «по совести»?
Видимые атрибуты усиления законности николаевской монархии – вездесущие жандармы и увесистые книги Свода – были подкреплены содержательно. В первом томе Свода были опубликованы Основные законы Российской империи. Они разрабатывались как противопоставление западной конституционной модели, ограничивавшей монарха. Ее неприменимость для России, на чем настаивал в своей записке Сперанский, компенсировалась у него идеей особой российской конституции-учреждения, основы «гражданского образа правления». Разумеется, ни о каком «публичном контракте» не могло идти и речи[79]. Тем не менее в Основных законах был прописан моральный принцип, связывавший монарха и подданных и выражавшийся в обращении к совести.
Первая статья Основных законов указывала на главную обязанность подданных – повиноваться не только из страха, но и по совести:
Император всероссийский есть монарх самодержавный и неограниченный. Повиноваться верховной самодержавной власти его не токмо за страх, но и совесть сам Бог повелевает[80].
Эта формула опиралась на известное положение из послания к Римлянам апостола Павла: «Тѣ́мже потре́ба повинова́тися не то́кмо за гнѣ́въ, но и за со́вѣсть» (Рим. 13:5). Феофан Прокопович внес это положение в Духовный регламент 1721 года, в котором была прописана роль церкви в петровском государстве и утверждалось: «Монархов власть есть Самодержавная, которым повиноваться Сам Бог за совесть повелевает»[81].
Составленный Феофаном текст присяги для чинов Духовной коллегии стал основой для присяги императору, введенной 5 февраля 1722 года. В нем подданные обязывались исполнять свой чин «по совести». Так в петровское время совесть подданных стала предметом государственного интереса уже не с точки зрения защиты православной веры и пресечения отпадения от нее, но в более широком смысле[82]. Служба «по совести», в согласии со справедливым и естественным устройством власти, а не только из страха наказания за нерадивость, была зафиксирована в законе как принцип служения Отечеству. Феофан написал специальное «Рассуждение о присяге, или клятве», в котором доказывал, что требование присяги от подданных не противоречит христианским догматам, а, напротив, «есть самое высокое Богу почтение»[83]. Текст присяги вошел в Основные законы 1833 года.
В исследовательской литературе уже отмечалось, что притязания первого российского императора на совесть подданных нужно рассматривать в контексте хорошо известной и самому Петру I, и Ф. Прокоповичу протестантской риторики совести[84]. Будучи мощным средством сопротивления деспотизму Папы римского, обращение к совести стало одной из ведущих протестантских идей правильно организованной государственной власти. Инструментализация совести как риторическая модель взаимной самоотверженной работы подданных и царя на благо Отечества, воспринятая Петром прагматически, без связи с лютеранством, закрепилась в российском контексте[85]. Указывая на сакральный характер самодержавной власти, она отсекала саму возможность ответственности монарха перед кем-либо, кроме как перед Богом, по совести. Наиболее емко в XVIII веке это кредо российской монархической власти выразила Екатерина II в записке «О преимуществе Императорского Величества»: император «отчету же в делах на сем свете не подвержен», а дает отчет и «благодарение Единому Творцу Нашему Богу»[86].
Слова Екатерины верно трактуются исследователями как выражение неограниченной власти императрицы[87]. Однако в XIX веке, в условиях необходимости упрочить легитимность самодержавия и улучшить качество управления, появились новые оттенки понимания связи российского монарха с Богом. Основные законы 1833 года позволяли помыслить, что монарх также принимает на себя своеобразное обязательство, о котором говорилось в пятой главе Основных законов «О священном короновании и миропомазании». В ней сообщалось, что о времени этого обряда должно быть объявлено всенародно, а к самой церемонии в Московском Успенском соборе специально призывались представители высших сословий.
Текст Основных законов регламентировал и саму церемонию. Прочтя вслух символ православной веры, «по облечении в порфиру, по возложении на Себя короны и по восприятии скипетра и державы», коронованный монарх должен был прочитать специальную молитву (чин коронования). В ней он «призывал Царя Царствующих