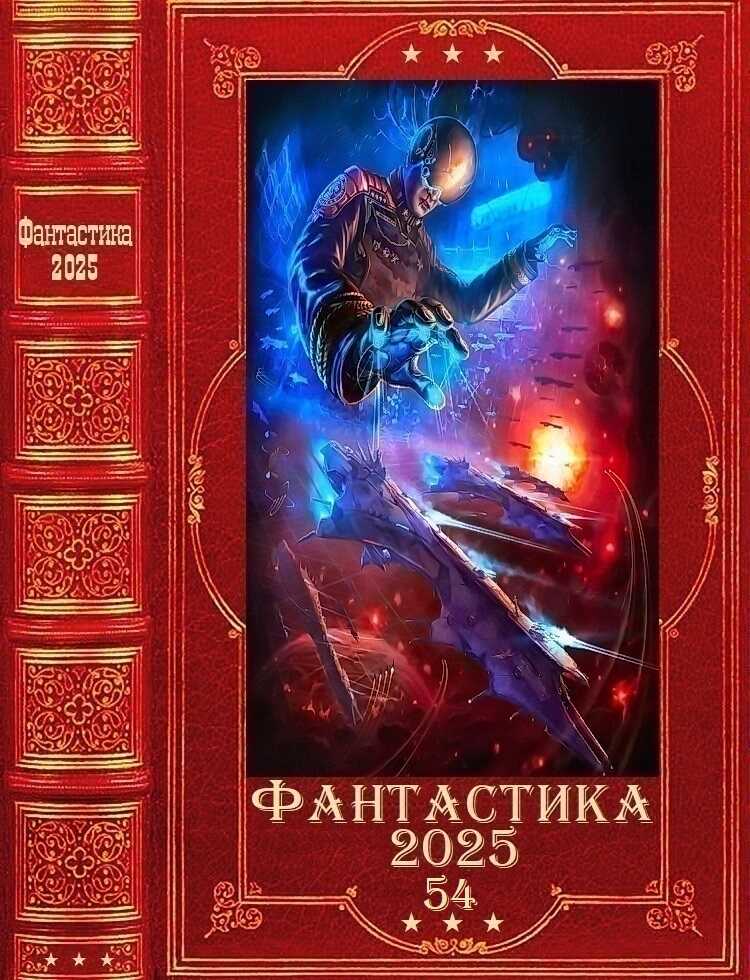Елисеева «Наглядные иллюстрации к заметкам одного советолога» (35/1972). Порой этнокультурные элементы и вовсе могли сводиться к официальным символам, например оригинальному коллажу из флагов советских республик (35/1972; 12/1975) или, наоборот, к пограничным столбам с указателями («Так лучше?», Г. и В. Караваевы, 20/1990). Любопытны и гендерные метафоры, связанные с советскими этносами. Здесь случались самые разные сочетания, которые, по всей видимости, в большей степени зависели от индивидуальных предпочтений художника или редактора. Кто-то пытался соблюсти максимальный паритет, и женские образы представляли семь республик из пятнадцати (Ю. Федоров, 35/1972), рядом же могла быть очевидная диспропорция – только девять из двадцати четырех этнических групп представлены женщинами (И. Семенов, 35/1972), а в некоторых случаях женщины в подобных собирательных композициях и вовсе практически отсутствовали (10/1970).
К началу 1980-х годов подобная гендерная специфика регионов стала понемногу размываться: например, в 1982 году символом СССР стали пятнадцать пар, одетых в национальные костюмы (13/1982), хотя русская пара все равно осталась в центре композиции. Впрочем, в том же году другой «коллективный портрет» историко-культурной общности «советский народ» имел сильный гендерный дисбаланс: из пятнадцати республик только три были представлены женскими образами (36/1982).
Одной из базовых метафор был общий стол (04/1957; 30/1957, 35/1972), который формально позволял подчеркнуть равенство всех народов. Однако и здесь представителей русского народа либо располагали по центру экспозиции (30/1957) или на переднем плане (04/1957), либо выделяли при помощи дополнительных элементов (35/1972).
А. Р. Абалов и В. Л. Иноземцев отмечают, что
внутри высших партийных структур в брежневские годы постепенно кристаллизуется определенное этническое ядро, управляющее государством. В период 1966–1981 гг. русские, украинцы и белорусы увеличили свое представительство среди членов Центрального комитета партии с 68 до 85%. В Политбюро ЦК КПСС образца 1983 г. входили 19 славян, один азербайджанец, один латыш и один казах. Все секретари ЦК были представителями трех славянских народов. Похожей выглядела и ситуация в армии…[94]
Канонизированная этничность в стилизованных до условности «национальных» костюмах оставалась ритуальной демонстрацией «национального по форме и социалистического по содержанию».
Кавказ в зеркале советской послевоенной карикатуры
Чрезвычайно полезными источниками по нашей теме стали сатирические журналы, выходившие в Грузинской ССР («Нианги» – «Крокодил», выходил с 1923 г.), Азербайджанской ССР («Кирпи» – «Еж», с 1952 г.) и Армянской ССР («Возни» – «Еж», с 1956 г.). Карикатуры Г. Ломидзе, Г. Пирцхалава, И. Наджафкули, Н. Семенова, А. Зейналова, М. Абашидзе, Г. Тер-Газаряна, Д. Лолуа и других художников нередко публиковались в «Крокодиле» под рубрикой «У нас в гостях».
В 1950-е годы для кавказских сюжетов характерна стереотипизация и колониальная экзотизация. Всего в данный период насчитывается 39 карикатур, связанных с кавказским регионом. Их можно разделить на 29 с подчеркнутой региональной спецификой и 10 «стандартных» изображений. Распределение по республикам было довольно равномерным (Грузия – 8, Армения и Азербайджан – по 5, республики Северного Кавказа – 11).
В визуальном языке «Крокодила» тех лет присутствуют далеко не только карикатуры – много почти лубочных изображений. Эмоциональный спектр также широк: от мягкой сатиры до визуальных крокодильских «вил в бок» с жестким шаржированием. В случае «международном» – чаще всего плакат, выполненный в выраженной экспрессивной манере.
Представители народов Кавказа присутствуют как труженики на общих плакатно-лубочных иллюстрациях вместе с другими «братьями-народами». Как правило, изображаются усатые брутальные мужчины в бешметах, черкесках с газырями, папахах/башлыках, бурках («Грузинский рог изобилия» 30/1952, Г. Вальк, В. Добровольский; «Возвращение Мадины», 36/1955, «Стол в складчину», 30/1957, В. Добровольский; 15/1959, 29/1959, 32/1959); женщины – очень редко («В кулуарах съезда», 05/1956, рис. В. Горяева). Образ «Нианги», грузинской франшизы «Крокодила», выполнен именно в этом стиле: крокодил изображен в папахе и бурке с газырями и кинжалом (07/1958). Одиночный позитивный визуальный образ кавказца встречается в этот период нечасто. Например, горячий абхазец Дауд, решивший посвататься к зоотехнику Тоне, изображен насмешливо, но скорее сочувственно (36/1955; 30/1952), при этом очевидны отсылки к классическому советскому киносюжету «Свинарка и пастух» (1941, реж. Иван Пырьев). Безусловно плакатный образ – Герой Соцтруда Виктория Маркарян (Армения), изображенная в одном ряду с женщинами – академиком, мореходом и плотником – в одном из мартовских выпусков. Характерный сюжет – гастроли московских театров в горном ауле (22/1952). Время от времени, нечасто, публикуются карикатуры из «Нианги» (Тбилиси), «Кирпи» (Баку), «Возни» (Ереван) на сюжеты без этнической подоплеки. Показательна карикатура Гии Пирцхалавы (07/58), где народный костюм персонажа и антураж сочетаются с социалистической техникой (часами).
Негативных образов представителей народов Кавказа предостаточно. Часты злые шаржи на отдельных персонажей: хапуга (Адыгея); бюрократы и крючкотворы (26/1951; 27/1954), зажим «критики снизу», хулиганы (07/1958), бездельники (12/1957; 16/1959), прогульщики (06/1956, 12/1957) (Армения, Азербайджан); плагиатор и псевдоученый из Армении, решивший разводить пчел в Заполярье (16/1952); злоупотребление служебным положением, неудачное похищение невесты в Фиагдоне, неудовлетворительное состояние службы скорой помощи в Дзауджикау (Северная Осетия, 07/1952); невыполнение плана по добыче «Грознефтью» (06/1957); кумовство в комсомольском активе (Дагестан, 02/1952).
(«– Все невест крадешь? – Что ты, прапраправнучка учиться не хочет, вот в школу везу!») Из серии «Среди долгожителей» В. Шкарбана. «Крокодил». 1975. № 22. С. 12
Предметами шуток в «Нианги» и «Кирпи» стали, в числе прочего: любовь к футболу, переходящая в махинации с игроками в Тбилиси (12/1952), бесцельное перемещение учителей из школы в школу (Адыгея, 26/1952), нерадивое отношение к наследию (Дербентская крепость, 06/1952), обсчет и обвес покупателей (23/1952), подхалимство (08/1954), неадекватная реакция на критику (24/1952) (Грузия), взаимное славословие художников (Азербайджан, 08/1957), подкуп критика обедом (Армения, 15/1956). Распространен и часто этнически маркирован сюжет «свое – не чужое»: колхозник, заботящийся о личном участке с куда большим рвением, чем об общественном (Армения, 16/1956).
В 1960-е годы образ Кавказа (суммарно 58 изображений) делается гораздо позитивнее и получает совершенно новый подтекст. Теперь «Крокодил» становится площадкой для нативной рекламы Кавказа как центра горного туризма и его туристической инфраструктуры («и здравница, и житница…»). Эта туристическая дестинация по-прежнему остается экзотической (14/1967, И. Наджафкули): ее представляют торговцы домашним вином (18/1962), шашлычники, сапожники, устроившиеся на горной тропе (20/1960), игроки в домино (20/1961). Туристы также постоянно сталкиваются с неизменными горцами на ишаках (20/1969, 30/1969) и мудрыми аксакалами («Среди долгожителей», В. Шкарбан, 02/1968). Важно отметить, что туристический и курортный «текст» Кавказа в СССР начали формировать еще в конце 1920-х годов и здесь карикатура во многом следует сатире литературной[95].
«Крокодил» публикует полные мягкого юмора позитивные изорепортажи с Северного Кавказа, например «Лаки», рассказывающий о героях-удальцах, мудрых, как горы (30/1969, А. Моралевич), или «Лехаиндрао» с классическим