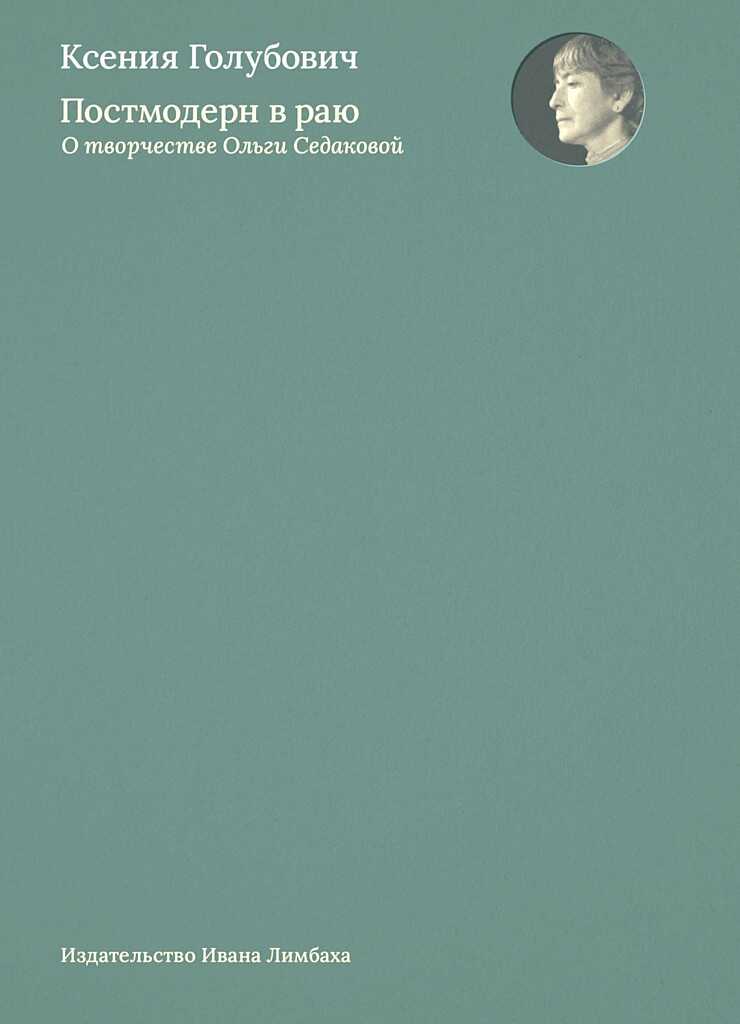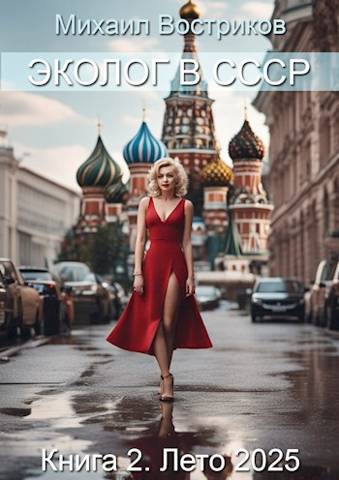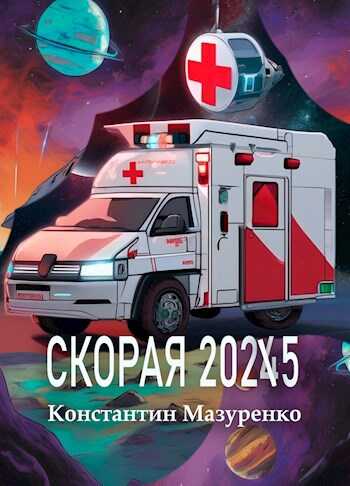в советской разведшколе, чем очень гордится: с ним единственным мы говорим по-русски. Конечно, до начала войны Ацо никогда не участвовал в боях и никогда не видел умирающих рядом людей. Еще в Югославии он обучал особый отряд, типа советской «Альфы», – тренируя в нем и хорватов, и сербов, и мусульман. Но тогда у них не было своего Афганистана. Когда началась война, отряд распался, чтобы потом встретиться друг с другом в перестрелках… обученные одним командиром, умеющие делать все одно и то же, обучившие новых людей так, как их учил командир, который к тому времени создал уже новое подразделение… О чем они думали, когда их рассекла линия фронта?
«Сербов выставили плохими парнями. Это все – фарс,– говорит Ацо.– Нас заставили играть в плохих и хороших парней. Эти национальные лидеры все бывшие коммунисты. Милошевич все делал, как хотели американцы, когда они ему говорили – бомбил, когда велели подписывать – подписывал. Он нарочно не принимал правильных в военном отношении решений. Военным образом мы могли эту войну выиграть: он не дал этого сделать». «Пусть они вернут Милошевича нам,– говорит отец,– мы будем судить его не за то, что он якобы сделал, а за то, чего он не сделал. Он пришел на волне националистических лозунгов за единую Сербию, а по ментальности был коммунистом, все говорил о единой Югославии, а коммунисты уже давно двурушничают – и вашим и нашим, никогда прямо и твердо не способны проводить национальной политики». Ацо соглашается, но как будто не до конца. Ему как-то с трудом дается националистическая риторика, вначале он как-то поддерживает ее, но потом становится яснее, что предельное имя реальности для него не Сербия, а все же именно Югославия. В отличие от Белого Саши Сербия, похоже, все еще не родилась для Ацо. Да и сам он похож скорее не на национального героя, а именно на военного, служаку, который присягает один раз в жизни и больше не меняет клятв. Чем больше он говорит, пробиваясь сквозь собственный казенный язык, о том, что он любит, тем больше высветляется его лицо, розовеет, ярчеет, как будто на него начинает падать тот особой нежности свет, который умели придавать на своих портретах даже самым грубым лицам военных, генералов, армейских портретисты XVIII века. Века Просвещения. Века единого наднационального проекта.
«В Югославии очень сильная армия, четвертая в Европе. Очень хороший флот. Пока нам удается ее сохранить. Вот американцы и не хотят, чтобы была армия, им не подчиняющаяся. Знаешь, – продолжает он, – у нас в Югославии была хорошая жизнь. Никто ни с кем не дрался, ничего никто не говорил. Хорваты, сербы, словенцы, черногорцы друг с другом женились, даже не знали, кто есть кто, словенец или хорват».
Но потом Ацо говорит о том, как падали рядом с ним только что живые люди, как сгорают городские дома, как дрожит весь небольшой мирок от налета авиации. «Эта перемена…– он замолкает,– знаешь, я стал ходить в церковь. Я понял, что Бог существует». Как-то неловко и скомканно он пытается объяснить мне это пережитое крушение реальности, единственной, какую он знал, которая была прочна и знакома, в которой жило уже не одно поколение. Югославию, со всеми ее звуками, запахами, цветами, лицами, скоростями, со всем ее бытом, взаимными переходами, поездками, смели, как сор, разыграв театральное представление недавней войны для учреждения новой реальности, нового, как бы устойчивого «мирового порядка», который в печальных глазах Ацо насквозь театрален.
Последние его слова словно бы рассеивают на атомы яркий, театральный мир политики, противостояния интересов, споров, фигур и вместо всего оставляют только одно – маленький белый храм, такие, как здесь делают в Сербии, на горах и холмах, небо. Нежный розовый свет, высвечивающий это простое лицо, вдруг меняет его, подчеркивая красивые дуги бровей, большие глубоко посаженные глаза, аккуратность выписанного рта, делая Ацо похожим уже не на портреты XVIII столетия, а на старинные фрески, где в руках у фигуры какой-нибудь собор, покровителем которой она является. Сейчас Ацо бы очень понравился Бобе, он действительно похож на того, кто смотрит на мир как бы чуть-чуть извне, заглянув по другую его сторону. Вот в чем верность иконического пространства: оно и в самом деле показывает те предельные силы, которые действительно правят миром, когда мы этот мир любим. Потому на иконе человек всегда больше здания. Так и Ацо в этот миг – чуть больше всей Сербии. Но все же не настолько больше, чтобы увидеть ее в хитросплетениях всех линий мировой карты. Для этого взгляда военного недостаточно.
(Ж) Книга большой игры
74. Новый Герцог
Мы приезжаем в Херцег Новий, или Новый Герцог. Это недалеко от Котора, практически в том же месте. Но в отличие от Котора Херцег Новий гораздо менее собран в нечто единое, старая венецианская крепость не обнимает собой город, не подчиняет его своей архитектурой, она немного отодвинута, а город, слоистый, многоуличный, где иногда можно встретить заброшенные виллы со старыми пальмами, напоминающими крымские пейзажи из соловьевской «Ассы», распространяется как бы пульсирующим ковром, проходящим от склона к побережью. Улицы-раскладушки, с резко уходящими вбок ступенями крутых лестниц, ведущих или идущих с моря, – этот город скорее похож на театр или библиотеку, чем крепость. А центральное место в нем огорожено высокой стеной, ворота в которую – напоминающая огромную шахматную ладью башня с часами. Мне почему-то не хочется заходить внутрь крепости. Но я все же поднимаюсь по ступеням, оказываюсь на площади и вижу перед собой византийского стиля большую церковь Святого Михаила с золотою мозаикой. Площадь полна столиков, вынесенных из окружающих кафе, как если бы именно здесь сосредоточилась вся суть светской сербской жизни: кафе-ресторанчики и византийской выделки православный храм.
75. Йован
Намного ниже центральной площади расположена вилла приятеля моего отца, Йована. Вилла еще не достроена, но сразу видно, чего хочет ее хозяин: широкие веранды открывают вид на ступенчатые, амфитеатрами спускающиеся черепичные крыши домов – в приморских городах здесь почти всегда ярко-красные крыши домов, утопающих в зеленых облаках древесных крон, повсюду вспышки разноцветья садовых растений, черные на ярком свету свечи кипарисов и ярко-голубой морской залив. На другом берегу, объясняют мне, граница с Хорватией, а немного влево, на заворачивающем черногорском береге видна гора Ловач, думная гора черногорцев, на которой расположена могила великого сербского поэта, епископа Негоша.
Хозяин виллы, как объясняет мне отец, предваряя знакомство, долго жил в Англии и писал диссертацию об