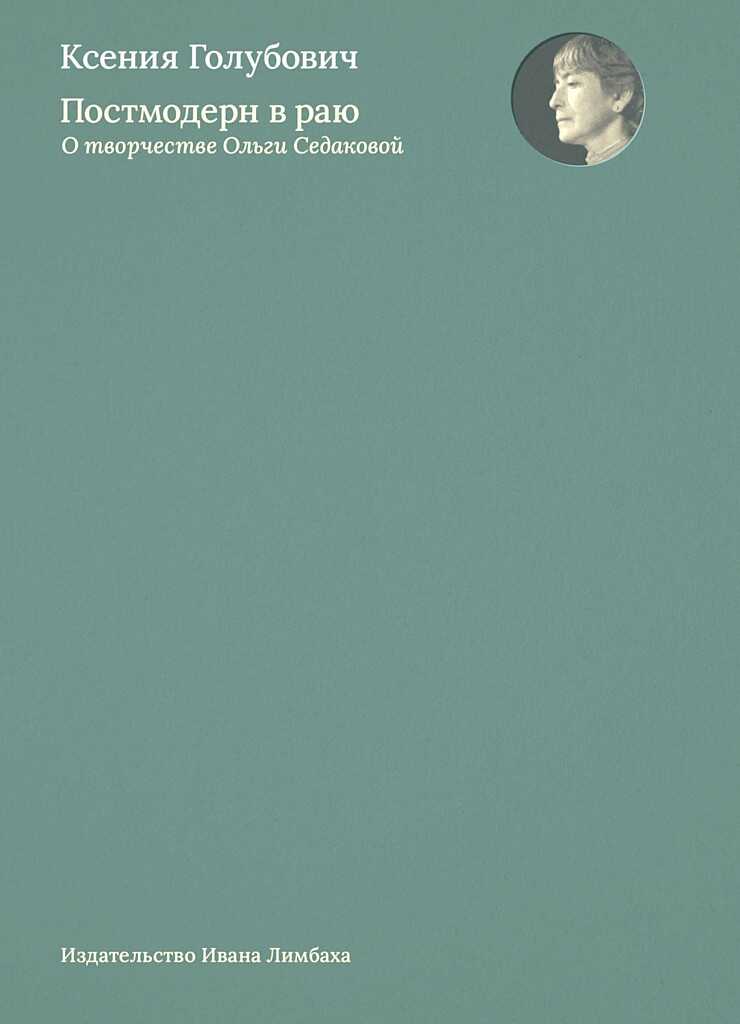гибкостью к русским, а могут прямой дорогой идти на Запад. Это – спор знаками, спор линиями, черточками, спор внутри бессознательного, спор немых.
Чтобы разрядить атмосферу, я перевожу разговор на немцев. Тут на слух всех без исключения немцы очень жесткие, в самом деле. Не стоит, наверное, упоминать, что каждый раз, когда я говорю: «Я говорю», это значит, что я говорю по-английски.
84. Американский друг
Не по-английски, но с Америкой говорит по телефону отец мальчика-мотоциклиста и муж Веры, так беспокоящейся о нем, Джорджи. Его друг возит в Америке опасные грузы, получает огромные деньги и имеет возможность общаться с сыном, которого бывшая жена увезла туда. Все бонусы! Но вот теперь, скопив денег, друг Джорджи хочет вернуться и открыть гостиницу. «Ты с ума сошел, – кричит на него хозяин дома, – ты что, хочешь тут сидеть со всеми этими ворами?! Тебя тут как мальчишку разведут. Гостиницу он открыть собрался, американец фигов. Все американцы на старости лет путешествуют, вот и ты путешествуй, и нечего тебе сюда ехать! Чего ты тут не видел!» Потом он возвращается к столу, садится и радостно смеется про своего «американца» и как его тут сербы облапошат, пока Вера накладывает ему еще домашнего сыра и крупно порезанных помидоров. Я думаю, так говорят все те, кто остался, тем, кто уехал. Не возвращайся, потому что ты просто не сможешь вернуться обратно.
(З) Каменная книга
85. Бигово. Дуки
Рыбную пищу я попробовала у Дуки. Кальмары, мидии, какие-то осьминожки. Дуки, друг моего отца, живет в Бигово, рыбацком поселке, до которого мы добираемся очень долго, плутая в ответвлениях дороги между Реживичами и Котором. Мы находим большой дом, построенный его отцом-генералом. Дуки не генерал и даже не военный, с весны и до осени он ловит рыбу и всякую другую морскую живность, а затем продает ее, как и Буча, в рестораны и для туристов. «Ты не понимаешь, – объясняет отец, – там у вас в Москве все придумано, все ресторанчики, кафе. А у нас все настоящее, здесь все настоящее – и пища, и места». Это я вспоминаю, оказываясь у Дуки. Около закрытого домашнего помещения пристроена веранда. Она – большая, из камня, на стенах – все рыболовное снаряжение Дуки. Комбинезоны, морские арбалеты, маленькие гарпуны, маски, ласты. Под ними – большой стол, за которым можно уместить человек двадцать. Если расширить и поставить еще столы, будет настоящая таверна, тем более что у Дуки – культ пищи. Подружившись с парой соседок, он каждый вечер организует грандиозные ужины, но особенно старается к приезду гостей. Это сложные морские ужины, из прозрачных кальмаров, из салатов с мидиями, со свежайшим хлебом, молодым вином.
Но это – вечером, а днем мы плывем на старенькой резиновой лодке по заливу, я и двое гостей, серб и девушка из Венгрии. Мы плывем вдоль берега и останавливаем лодку в том месте, где вниз под берег врезаются темные пещеры. Я никогда не знала, как земля выглядит с краю. На пляже нет края. Там земля просто входит в воду и исчезает в ней. Но если когда-либо иметь возможность войти в пещеру у моря, подплыть под край земли и вплыть в ее лоно, то чувство невозможно спутать ни с чем.
Черногория – каменная. Камень, сходящий в воду, пористый, острый. Ступая на него ногами, я все время резала кожу, любое неловкое прикосновение оставляет мету. Когда же, поднырнув под большую каменную плиту, я вплыла в небольшой водоем перед пещерой и потом в саму пещеру, где, точно морской еж, зацепилась своей рукой-щупальцем за край, мои пальцы и ладони покрылись множеством ран и микротрещин, мгновенно, как новые формы жизни, раскрывшихся на коже от простого прикосновения к камню. Это странное чувство близости земных недр захватывает меня полностью. Исчезают все органические структуры, все, что растет на почве, что способно быть мягким и легким, пускать корень, цвести. Только эта жесткая пористая поверхность, светло-бежевая, темно-желтая. Бьющиеся об нее воды отступают с каждой волной, и тогда с каждого выступа этого сложного, похожего на соты рельефа начинает сочиться струйка воды. Молоко, думается мне, – это огромное вымя, огромное каменное вымя, которое сочит свое молоко. Из пещеры видимый мир блистает. А в ней – тихо и лишь иногда слышатся, если рядом, плески ниспадающих струек. А в проеме блистающий чистый мир, такой, каким он был тысячелетия назад, это блеск тысячелетий, блеск отсутствующей истории. Господи, как я устала от этой истории, нельзя ли, чтобы все началось заново, в блеске и силе? Или это не то? Нам, вследствие политической корректности, и говорить об этом нельзя?.. Прилепленная рукой к каменной стенке утробы моей праматери, моей земли, из которой вышли мы или которая была до нас, в первый день творения, я смотрю на блеск отца-солнца. И мне хочется сохранить на сетчатке моих глаз эту белую яркость, чтобы отныне все, что я вижу, было как при вспышках, как на засвеченных медитерранских негативах. Когда мы приплываем обратно и я вылезаю из воды, ни одна рана на моем теле не болит. «Конечно, – говорит Дуки, – здесь вода лучшая для жизни, здесь такая взвесь солей, что самая полезная. Мы да Мертвое море. Вот и все». Молоко, молоко матери моей, земли, которая одновременно и черная, и белая.
86. Ирина
Самое поразительное в ней – взгляд, глаза, слишком светлые, серые, яркие, окруженные выгоревшими ресницами. Эти глаза были отдельными живыми существами, какими-то животными, цветами, зрячими и трогающими, как будто прикасающимися ладонями, целебными и вещими.
Это – падчерица Дуки Ирина. Ее мать – известный психолог, та самая сидевшая у Драгана Зока, которая оценивала трагических актеров, а отец ее – один из лучших в мире патологоанатомов, составивших самый подробный атлас человеческого мозга. Отличаясь странностью характера, ее отец перессорился со всем деканатом, и ему ни в какую не давали квартиру, хоть он и мировое светило. Из протеста он стал жить в своем кабинете вместе с заспиртованными извилинами и трупами, куда раз в неделю к нему приходила ночевать дочь Ирина.
Бывает так, что, встретив человека, ты все знаешь уже по глазам. Нет, я не имею в виду то общее социальное, общекультурное знание, каким я знаю словака Роберта. Нет, тут речь о другом, – ты видишь луч, который столпом стоит в человеке, а все подробности кружат в нем, как пылинки на солнце. Ты видишь целое и