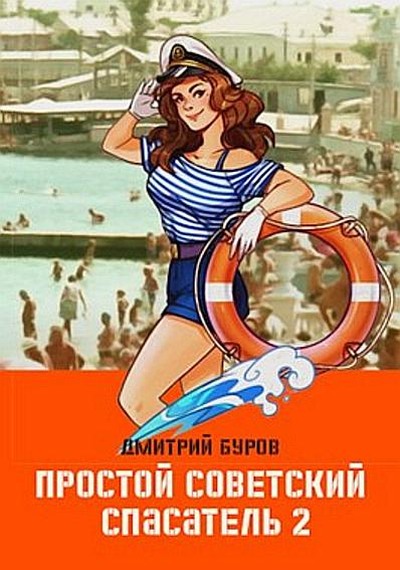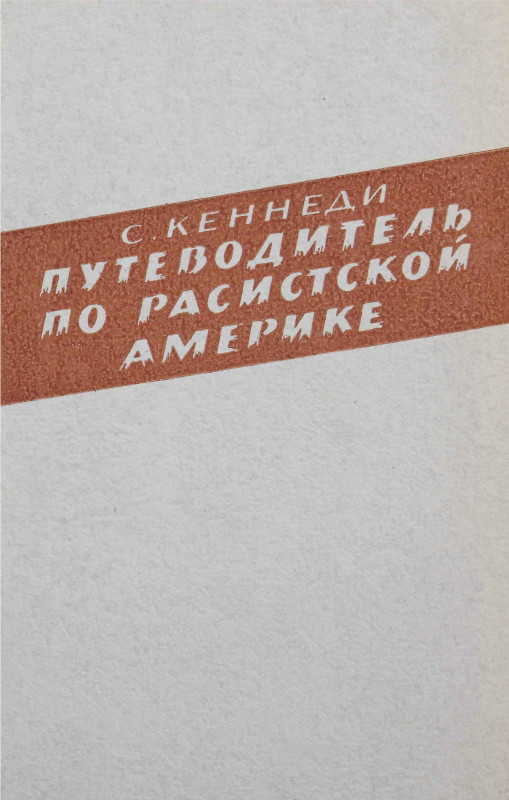отметает с презрением. “Мы люди простые, неученые”. А получается, что и бездушные, и корыстные, и даже подловатые. Такой вот моральный вывод из этого замечательного фильма…
Как ни крути, чем больше книжек прочитал человек, тем он лучше именно как человек, как личность. Так сказать, в общем случае. В статистически достоверных пределах…
Я ни в малейшей мере не тоскую по СССР. Я, можно сказать, убежденный антисоветчик. Но при этом стараюсь быть справедливым.
Поэтому я должен обратить внимание просвещенных читателей, что в Советском Союзе был настоящий культ образования. От школьного и вузовского до курсов и кружков. Когда хотели что-то хорошее сказать (написать в газету) о рабочем или колхознике, то говорили: “Прошел путь от ученика до мастера; учится на заочном отделении института; занимается в хоровом кружке; в личной библиотеке – более пятисот книг”.
И никто никогда не говорил и не писал о рабочем и колхознике, о военном или инженере: “Умных книг не читал, рубашку не гладит и вообще грубоват, зато какой хороший человек!” Это был бы полный абсурд и даже подрыв устоев.
Потому что ядром советской идеологии была работа над собой.
Стать более умелым, знающим, расти по службе – вот цель, которую проклятущая советская власть ставила перед каждым советским человеком.
Можно смеяться над советской системой политучебы. Но давайте сделаем акцент не на слове “полит”, а на слове “учеба”. Люди брали тетрадки, шли в библиотеки и конспектировали Маркса и Ленина. Пусть в многоумном Марксе они ни черта не понимали, а в статьях Ленина не было ничего существенного, кроме ругани по адресу оппонентов, – это не так уж важно! Гораздо важнее сам процесс конспектирования, сидения над книгой у настольной лампы.
Идеал советского человека – это специалист, эрудит, спортсмен и щеголь. Воспитанный, вежливый. Идеологически (значит, философски) грамотный, умеющий отличить марксизм-ленинизм от троцкизма… В СССР царил культ позитивного знания, научности, вообще рациональности (разумеется, в рамках советского мифа, но и в этих рамках работали выдающиеся ученые, и не только естественники, но и гуманитарии, и даже философы).
Впрочем, правды ради стоит отметить и другое. Советская дисциплина ума и поведения не сразу появилась. Сначала был полный разгул черни, горделивое “мы гимназиев не кончали”, то есть “в очках – значит к стенке!”. Это был бунт низов, расчетливо превращенный в технологию власти…
В конце 1930-х Сталин расправился в том числе и со сволочью, с полуграмотными расстрельщиками в кожанках. На их место пришли респектабельные палачи в габардиновых плащах. Отпраздновали юбилей Пушкина, выпустив великолепное с филологической точки зрения полное собрание сочинений. А какой тогда выходил Лев Толстой в 90 томах со всеми правками и черновиками! Какой Стендаль! А потом, уже в хрущевско-брежневские годы, какой Тургенев, какой Достоевский, какой Чехов – государство не скупилось на текстологов.
Виновато ли полное собрание сочинений Пушкина в том, что оно вышло в свет по указанию негодяя и палача Сталина? Виноваты ли латынь и логика в том, что их пытались включить в школьную программу в правление того же деспота?
Но вот ведь как допекла советская власть своим тоталитарным дисциплинированием! Извечную тягу человека к знаниям, к чтению книг, к социальному росту, к изяществу манер, одежды и обстановки некоторые наши современники стали воспринимать как лицемерие, бездушие и вообще гадство. Тем более что демократия дала полную возможность высказывать любые мысли, даже такие дикарские».
Спасибо Драгунскому. Шепилов бы с ним несколько не согласился, для него 37-й год был прежде всего временем, когда Сталин расправлялся именно с «ленинской гвардией», то есть людьми книги. Но на самом деле было и то, и другое, просто каждый замечает прежде всего важные для него вещи.
И, кстати, что касается 37-го и прочих годов: заметим, у меня свой взгляд на те события. Я не валю все исключительно на Сталина. На мой взгляд, 37-й год был общенародным (ну, массовым) движением по логическому завершению Гражданской войны, по устранению заново народившейся элиты. Бунт и ярость «деревенских собак». А кто дал сигнал к началу этого бунта, какие политические задачи попутно решал – это уже частности.
Так вот, Шепилов был вовсе не уникальным символом просвещенческой советской идеологии. Он был лишь одним из очень, очень многих людей, которые жили в рамках этой идеологии, доказывали ее правильность всей своей биографией.
Помните, был такой писатель – Максим Горький? Почему он был до такой степени знаменит, что его возвращение из эмиграции на Белорусский вокзал стало настолько общенародным событием, что его встречала целая толпа, в честь чего затем на вокзале поставили памятник?
Горький что, был уж настолько хорошим писателем? Лучше Бунина, Куприна? Лучше плеяды великих поэтов того времени? Да вовсе нет. По-моему, писал ужасно. Я представить не могу, чтобы сегодня читали книги Горького (ладно еще – смотреть его пьесы, которые мне кажутся неуклюжей попыткой полемики с Чеховым).
Но Горький был грандиозным олицетворением народной мечты о том, что это возможно – выйти из самых низов, обучиться и самому стать писателем, да еще и всемирно известным.
Собственно, Шепилов почти в точности повторил подвиг Горького. Ну, не из самых низов – но не из дворян. Получил два высших образования, стал профессором, членкором Академии, и уже только благодаря этому – политической фигурой. Как и в случае с Горьким, политическая и общественная роль человека оказалась производной от знаний, образования, просвещения.
И поскольку не богатство, а именно просвещение было искренней и массовой идеологией СССР, а до него – Российской империи (СССР просто не осмелился от нее отказаться, да и не пытался), то людей, думавших как Шепилов, были миллионы.
Конечно, были в стране люди еще более просвещенные, чем он, и тоже не из «старых элит», он с ними дружил и ими восхищался. Просто никто из них не поднялся так высоко, как Шепилов, именно в государственной политике – дойти, по фактическому влиянию, до положения третьего человека в стране! В их глазах он был тем самым Кеннеди – символом надежды на просвещенного лидера. И их, повторим, было много, очень много.
При этом Шепилов вовсе не был молчаливым символом.
Конечно, он не скрывал своих (тем более – вполне советских) взглядов на первенство образования для социальной роли человека. Не то чтобы он написал внятный для сегодняшнего человека трактат на эту тему – но он постоянно об этом говорил.
Говорил как о чем-то настолько очевидном, что вроде бы это и доказывать не нужно. Вообще, всегда интересно наблюдать не за идейными озарениями людей, озарениями,