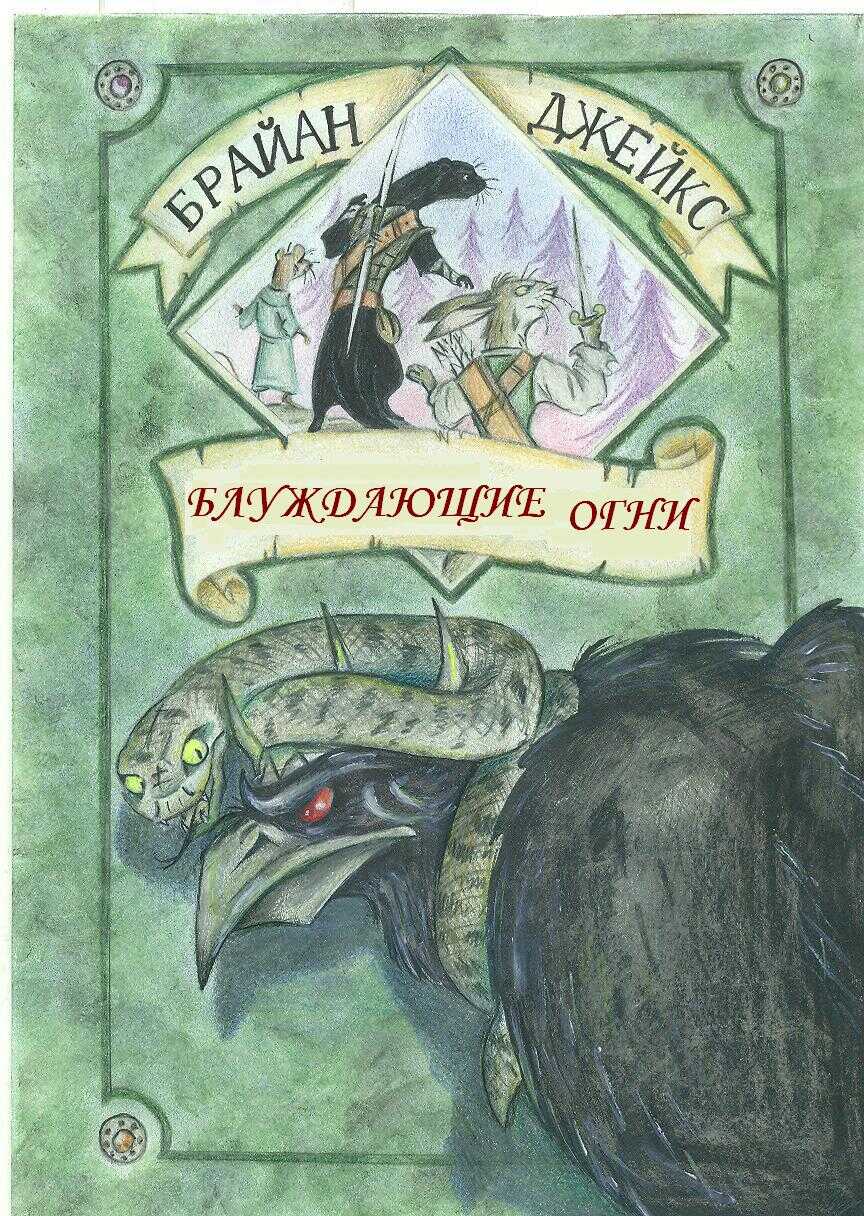Ознакомительная версия. Доступно 22 страниц из 110
Так он мне и оттуда кулечек отличного бразильского кофе прислал, не забывает… Ну, пойдете?
– Пойду.
Мечетный шел за ним и удивлялся, что все кругом оказывалось не таким, каким он раньше представлял. Глазную клинику знаменитого института воображение рисовало светлым зданием самых современных форм, а оказалась она большой темноватой больницей с толстыми стенами, с длинными сводчатыми коридорами, где, как в туннеле, лишь в самом конце виднелся дневной свет. В полутьме, слабо освещенной тусклыми лампочками, тут и там встречались раненые, они почтительно приветствовали профессора, иные при его приближении вставали во фрунт, и он с той же мальчишеской чудинкой в голубых глазах весело рассыпал направо и налево: привет, привет.
Ну а кабинет Мечетного просто поразил. Он совсем не напоминал кабинет ученого, а больше смахивал на жилье старого интеллигента: цветы на окнах, книги на этажерках, диван с лежащими на нем пледом и подушкой. Горка. За стеклом такой горки из резного красного дерева красоваться бы фамильному сервизу или фарфоровым безделушкам, а не хирургическим инструментам. И кругом акварели, рисунки, пришпиленные кнопками прямо к стене. И в комнате этой, имевшей такой жилой вид, у входной двери на вешалке – шинель с полковничьими погонами, папаха, а на распялке – тщательно расправленный китель, на котором ордена, медали и золотой знак Сталинской премии.
Вскользь осмотрев пейзажи, Мечетный невольно остановил взгляд на одном из них: речка, крутой песчаный обрыв, сосны с золотыми стволами. Это напомнило ему тот уголок подо Ржевом, где в волжский откос был врыт блиндаж, возле которого Мечетный получил свое первое ранение.
– Заинтересовались? Нравится? – прогрохотал бас хозяина диковинного этого кабинета. – Это мое хобби. Если хотите, дурь, а интеллигентно говоря, увлечение. – Профессор священнодействовал у диковинной кастрюлечки, в которой уже начала пузыриться коричневая масса, исторгавшая острый кофейный аромат. – Нравится вам моя мазня? Когда-то ведь каждое воскресенье на этюды ездил. Но это все старье, старье. За войну ни разу и вырваться не удалось.
Надев перчатку, он снял с плитки кастрюлечку и осторожно, чтобы не сбить пену, наполнил две маленькие чашечки. Одну придвинул к Мечетному:
– Ну что вы, капитан, сидите как сыч? Я, можно сказать, подвиг совершил – из ничего вам глаз смастерил, кофе вас угощаю, какого турецкий султан не пробовал, пока ему Кемаль по шее не дал, а вы не радуетесь. – Встал с кресла, передвинул на полке какие-то книги, достал из-за книг графинчик и крошечные стопочки. – Вот с чего надо разговор начинать. Вы там в палатах, поди-ка, думаете: старик Преображенский сухарь, зверь, от запаха алкоголя в бешенство впадает. Впадаю. Но бывают, капитан, в жизни обстоятельства, когда сие просто необходимо. Вот сегодня мы с вами этим и воспользуемся. За ваше прозрение и за мою великолепную работу.
С непривычки даже малая доза алкоголя ударила Мечетному в голову, развязала язык, и он торопливо, будто боясь, что его прервут, принялся рассказывать о своей беде, о болтливом майоре по имени Славка, о Наташе, о сцене на лестничной площадке возле незнакомой квартиры, о сыне, который уже не его сын, и о том, как однажды он очнулся на жестком топчане на гауптвахте комендатуры.
Услышала Анюта про Наташу и Вовку, но даже виду не подала. Ничего не спросила и исчезла, не дав ничего себе объяснить.
Хозяин слушал гостя молча, смакуя маленькие глотки кофе. Не торопил, не перебивал вопросами. Только когда, выговорившись, Мечетный замолчал, он отодвинул свою чашечку.
– Все ясно, капитан. Диагноз такой: ситуация сложная. Ну, а вы эту самую Анюту здорово любите? Можете не отвечать. Давно это знаю.
Профессор встал, заходил по кабинету, один из его ботинков по-прежнему при каждом шаге поскрипывал, и скрип этот сейчас почему-то казался Мечетному печальным.
– Таких, как вы, капитан, не утешают. Вы не из тех, кто говорит, что, дескать, мне из того, что мир широк, когда у меня сапог тесен… Не из тех. Начинайте искать. Человек не иголка, пропасть не может. Ищите. В Библии сказано: стучите – и отверзнется. Стучите и не теряйтесь.
– Легко так говорить, Виталий Аркадьевич, когда у вас семья, дети.
– Есть одно дитя – сын. Сейчас сам профессор, видный клиницист в Казани. И не виделись мы с этим клиницистом с начала войны. А семья? Домой-то я только помыться в ванне да переоблачиться хожу. Понимаете?
– Виноват, не совсем.
– Эх, капитан, черт меня дернул жениться на девчонке. И вот, извольте видеть, спасаюсь в своем «бомбоубежище». – Он вновь наполнил чашечки кофе, вздохнул, покачал головой: – Не понимаю, и чего я с вами сегодня разболтался. Все, наверное, потому, что вы, капитан, лучшая удача старого лекаря Преображенского. – И тут, плутовато сверкнув голубыми глазами, засмеялся вслух: – Я сегодня даже Платоше во Львов телеграмму отстукал, рапортовал: видит капитан Ромео, можете об этом доложить достопочтенному профессору Неходе. Так-то…
Отставил чашечку, встал, повторил:
– Так-то вот, капитан. – И тоном приказа: – Ну, ступайте, а то, наверное, сестра Калерия хватилась: куда ее трофей делся… Или еще не трофей? Держите стойкую оборону? – А когда Мечетный был уже в дверях, крикнул ему вслед: – Стучите – и отверзнется.
Мечетный вернулся в палату, когда все уже спали, увидел на своей тумбочке несессер – подарок, сделанный ему Анютой в день рождения. Несессер был военторговский, стандартный, торопливо сшитый, как делались в военное время все бытовые вещи. Но это было единственное, что оставалось ему от Анюты, и, убедившись, что в палате все спят, он, укрывшись одеялом, прижал несессер к лицу и тихо, беззвучно заплакал.
23
…Стучите – и отверзнется. Мечетный стучал. Стучал упорно, ходил по эвакопунктам, по учреждениям, ведающим учетом военных, звонил по разным телефонам, наводил справки даже в милиции, добился приема у военкома города Москвы. Все удивленно смотрели на него. Кто выражал сочувствие, кто насмешливо разводил руками. Старший сержант Анна Лихобаба так и не нашлась. Удалось лишь узнать, что из армии она демобилизовалась, получила деньги по аттестату, выправила право на бесплатный проезд. А вот куда – узнать так и не удалось. Исчезла. Исчезла, будто растворилась в огромных потоках людей, которые по окончании войны двигались в разных направлениях, заполняя все поезда.
Усталый, разбитый возвращался он после этих тщетных поисков в клинику, где еще числился на долечивании. Все знали о его беде. Сочувствовали, удивлялись его упорству. И больше всех сестра Калерия, которая, как казалось, заинтересовалась им не на шутку.
– Чего зеваешь, капитан? – укоряли его доброхоты. – Мишень верная, баба что надо. Вперед, в атаку!
И когда Калерия предложила ему вечером пойти к ее подружке, у которой, по ее словам, была и своя отдельная комната, и патефон с пластинками, он пошел, снабдив предварительно Калерию деньгами на покупку угощения.
Подружка Калерии оказалась маленькой толстушкой с пухлым круглым детским лицом и огненно-рыжими крашеными волосами. Жила она в продолговатой комнатушке коммунальной квартиры, куда ее когда-то наскоро вселили после того, как сгорел ее дом, подожженный зажигательной бомбой. Заняв эту комнату, она обставила ее как могла, да с тех пор так ничего из настоящей обстановки и не сумела приобрести. Несколько разнокалиберных стульев и табуретов, пожертвованных ей когда-то соседями, тахта, устроенная на пружинном матраце, да длинный фанерный ящик, стоявший в углу и выполнявший обязанности буфета, – вот и вся обстановка.
Но веселая толстушка эта, работавшая в конторе какого-то завода, сохранила стремление к уюту. От пожара она спасла только патефон с пластинками да разные вышитые штучки: салфеточки, накидочки, занавесочки собственной работы. Все это теперь и было пристроено на спинках стульев, разложено на тахте, даже на подоконнике. Тахту отгораживала от комнаты причудливая занавеска, на которой крестиком (и не без искусства) было вышито озеро с плавающими лебедями и какие-то кавалеры и дамы в париках, кормящие гордых птиц.
Когда Калерия, проведя Мечетного по коридору, заставленному сундуками, шкафами, с висящими на крюках велосипедами и детскими ванночками, к третьей по счету двери, остановилась возле нее, горластый патефон исторгал из жестяных своих недр игривый мотивчик «У самовара я и моя Маша». Занавес с лебедями был откинут, на тахте сидел огромный дядя с обритой наголо
Ознакомительная версия. Доступно 22 страниц из 110