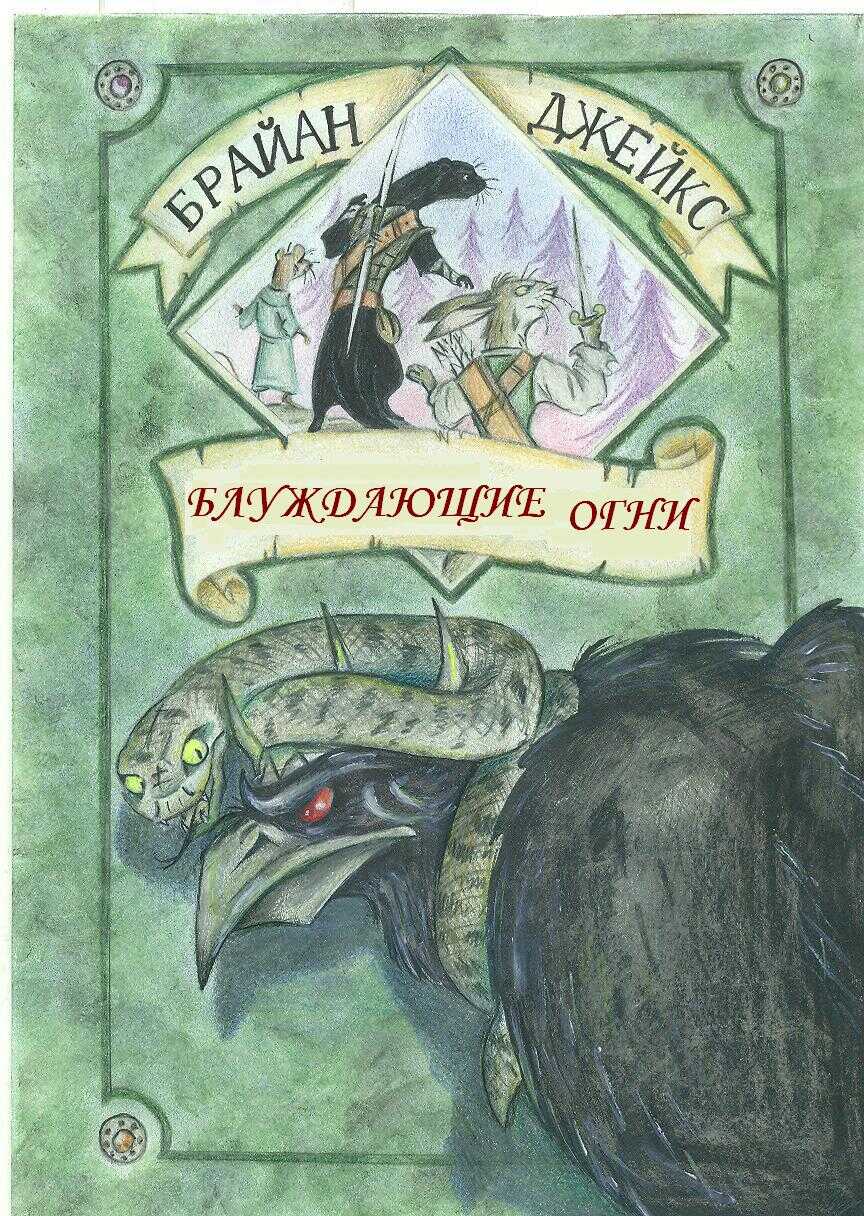Ознакомительная версия. Доступно 22 страниц из 110
головой. Китель его висел на стуле, и по измятым погонам, по рядам засаленных орденских ленточек Мечетный сразу угадал в нем бывалого фронтовика.
– Майор Дроздов, – отрекомендовался он тоненьким и таким неподходящим к его мощной фигуре голосом. – Подкрепления подошли, а боеприпасы на исходе. Там у нас, Капитолина, что-нибудь еще осталось?
– Мы со своим пришли, не беспокойтесь, – сказала Калерия, вынимая из сумки и ставя на стол водку, портвейн, маленькие свертки с колбасой, сыром и банку шпрот. – Вот на двести рублей товару… Глядеть не на что.
– Мы уж с Капкой за сутки пятую сотню проедаем… Вот, капитан, как они тут в тылу живут, пишут нам: живы, здоровы, живем хорошо, а на полтыщи горсть еды. Садись, садись, друг милый. – Майор был в самом благодушном настроении. – Капка говорила, ты уж отвоевался, а я, брат, еще нет. Мой победный салют еще не грянул. Из эшелона я… Нам, должно быть, с самураями беседовать придется.
Мощной рукой, поросшей рыжим пружинистым волосом, майор сгреб со стола бутылку, одним ударом вышиб пробку и разлил водку по четырем стаканам.
– Ну, капитан, не теряя времени, за тех, кому еще воевать.
Выпил. Сморщился. Брезгливо отодвинул стакан и даже передернул своими массивными плечами. Женщины тоже выпили. Мечетный, сидевший на уголке тахты, продолжал держать свой стакан в руке.
– Ну что же ты, капитан?
– Не пью.
– Как не пьешь?
– Не пью, и все.
Все трое с удивлением смотрели на Мечетного.
– Ты зачем же тогда сюда пришел? – В голосе майора было простодушное удивление.
– Танцевать, будем танцевать, – торопливо защебетала хозяйка квартиры, чтобы как-то сгладить наступившую неловкую тишину.
Порылась в пластинках. Сквозь хрип и треск просочился сладчайший тенор, и как бы из давних довоенных дней в эту комнату, убогую обстановку которой лишь подчеркивали эти салфеточки, накидочки, шторки, вплыли слова старинного курортного танго:
…Утомленное солнце
Нежно с морем прощалось,
В этот час ты призналась,
Что нет любви.
Тяжело приподнявшись, майор подхватил толстушку, и они попытались танцевать, теснясь в узком проходе между самодельной тахтой и импровизированным шкафом. Калерия несколько растерянно смотрела на Мечетного. Он продолжал сидеть все в той же напряженной позе.
– Ну, а вы? – В стареньком пестром платье из легкого крепдешина, с пышными волосами, топорщившимися перманентными завитками, Калерия как-то очень гармонировала со смешными словами старинного танго, которые пел сладчайший тенор. Платье ей было узко, оно облегало, как перчатка, ее плотную фигуру.
– Смешное платье, да? – сказала Калерия, перехватив взгляд Мечетного. – Оно у меня одно – и в пир, и в мир, и в добрые люди. До войны еще служило… Не беда, было бы на что платье надевать, а у меня, капитан, есть на что. – Она нервно усмехнулась. Круглые колени ее сильных ног выглядывали из-под короткой юбчонки, грудь просто разрывала легкую материю, так что на швах белели нитки. – Берегу это платье, чтоб голой не ходить. – И, засмеявшись грудным смехом, еще нервнее сказала: – А впрочем, говорят, что настоящие бабы без одежды выглядят лучше, чем в самом красивом платье. Верно это, капитан? – Встав, она шагнула к Мечетному, протягивая к нему руки: – Ну, пошли, что ли, потанцуем?
– Не танцую, – ответил тот, продолжая сидеть на краешке тахты.
Руки женщины опустились.
– Не пьет, не танцует. А любить-то вы хоть умеете, а? Тоже нет?..
Калерия стояла против Мечетного, в упор смотря на него. В глазах ее была растерянность, и вдруг они наполнились слезами.
– Я пошла, – сказала она, решительно направляясь к двери.
– Как пошла? Куда пошла? А еда, вон ее еще сколько… И бутылки не пустые! – Толстенькая Капитолина растерянно смотрела на подругу, и на пухлом детском лице ее было недоумение.
– Прощайте. – На ходу Калерия чмокнула ее в щеку, потом оттолкнула от себя, ловко пронесла свою массивную фигуру меж шкафов, ларей, велосипедов, вышла на лестничную площадку и, не дожидаясь Мечетного, сбежала по лестнице. Он догнал ее уже на улице. Они пошли рядом.
– Вам стало противно, да? Я ж вижу. Думаете, разгулялись бабоньки… Презираете?.. На шею вам бросаюсь, так? – И с истерическими нотками, которые так не шли к ее осанистой фигуре, так не вязались с ее яркой красотой, зачастила: – Да, бросаюсь… А вы когда-нибудь там, у себя на фронте, думали, что война не только убивает, не только города разрушает и деревни жжет?.. Она тут, в тылу, жизнь людям калечит. Сколько баб война без судьбы оставила… Думали, ну?.. Видела, видела, как вы на меня смотрели!
Шаг у нее был тверд, крупную свою фигуру она несла легко, уверенно.
– Разве вы, мужчины, представляете себе, что это значит для такой, как я, без судьбы остаться, без надежды судьбу устроить, всю жизнь хватать куски с чужих столов, да и в этом куске тебе отказывают, еще губы кривят… Чистюля поганая, зазнайка!.. Что, не думал об этом, герой Одера?.. А нас таких не тысячи – миллионы…
Мечетный еле поспевал за Калерией. Ведь действительно, охваченные фронтовыми заботами, они как-то никогда и не задумывались о том, о чем сейчас почти кричала ему разъяренная спутница, не размышляли над трагедией, которую готовила война множеству женщин. Ему стало жалко Калерию, но он не решился лезть к ней с сочувствием или утешением, понимая, что сочувствием он только оскорбит ее, а в утешениях она не нуждается.
Шли молча, а когда он попытался взять Калерию под руку, она с силой оттолкнула его.
– Не смей!.. Если кусок от души подадут, принимаю. А чтобы выпрашивать, чтобы из жалости, – нет, таким куском подавишься! – И вдруг уже перед самым подъездом сказала: – Эх, завидую я вашей Нюшке! По трамвайному билету десять тысяч выиграла и кобенится, черт-те что из себя выламывает – побегай за ней, поищи ее… Дура… Набитая дура!
24
Отчаявшись отыскать следы Анюты, Мечетный выправил себе билет в тот самый уральский город, откуда ушел когда-то в армию, и, добравшись до этого города, пришел прямо в свой институт. И хотя в профессуре мало кто его помнил, героя Одера, вернувшегося с орденами и Золотой Звездой, тотчас же восстановили на последний курс, с которого он ушел на войну. Разумеется, многие знания он порастерял, но до начала занятий было целое лето. Мечетный засел за книги в институтской библиотеке. Потерянное наверстал и, будучи человеком упорным и способным, окончил весною курс не хуже других. Ему предложили остаться в аспирантуре. Лестно было институту иметь аспирантом Героя Советского Союза. Он понял причину такого неожиданного предложения, отказался и попросил направить его на строительство металлургического комбината, еще только начинавшего подниматься в нерубленой тайге, у безымянной станции, не имевшей еще своего наименования, а так и называвшейся «Остановка». Это была одна из первых больших послевоенных строек. Она особенно опекалась государством.
Как известно, на стройках в постоянном преодолении новых и новых трудностей люди растут необыкновенно быстро, а малодушные, что не выдерживают суровых условий, неустроенного быта, попытав свои силы, бегут. И получается как в золотодобыче: вода уносит песок и камешки, а остаются золотые крупицы. Зато выдержавший все испытания человек стоит десятерых новичков.
Мечетный прошел немалую фронтовую школу, был неглуп, работы не боялся. Он стал быстро расти вместе со своим поднимавшимся в тайге заводом.
В дни учебы в родном городе он ни разу не встретился с Наташей. Знал, однако, что, окончив институт, на работу по специальности она уже не пошла, что замужем, живет благополучно и что сын Мечетного, имеющий теперь другую фамилию, здоров и уже учится. Мечетный начисто вырвал их из своей жизни, не искал встреч и старался о прошлом не вспоминать. Постепенно в труде и заботах на новом заводе, который стал для него самым родным местом на земле, стал он забывать и Анюту, хотя безликий образ этой девушки изредка приходил к нему в снах. А сама Анюта если и вспоминалась, то тоже лишь как хороший, давно увиденный сон.
Встречались в его жизни и женщины, но ни одной из них он по-настоящему не увлекся, ни одну не полюбил и был вполне доволен своим положением одинокого холостяка, способного,
Ознакомительная версия. Доступно 22 страниц из 110