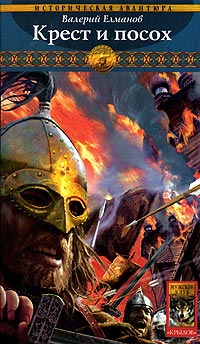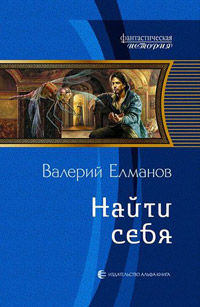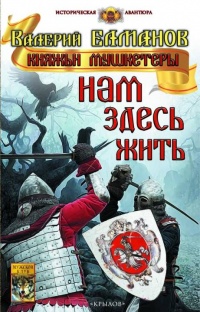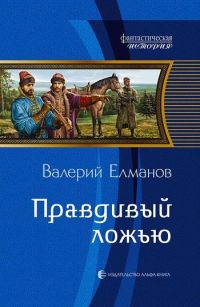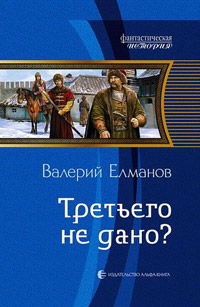Ознакомительная версия. Доступно 21 страниц из 105
самолётов, предоставили отдельное купе.
А русскому инженеру-конструктору барону Борису Слуцкому, помимо индивидуального купе, вдобавок выделили и медицинскую сестру. Очень уж исхудал знаменитый изобретатель за время тюремного заключения в Шпандау, куда он угодил сразу после начала войны за отказ работать на немцев против своей страны.
В соседнем вагоне катили на восток оружейники, включая Хуго Шмайсера, его брата Ханса и работников компании «Маузер» – братьев Фиделя, Фридриха и Йозефа Федерле. А неподалеку, через два купе, ехал Хуго Борхардт, один из авторов парабеллума.
По сути, Игнатьев вывозил чуть ли не весь военно-инженерный цвет немецкой нации. Отказников можно было пересчитать по пальцам рук. Кто-то банально испугался медведей, бродящих по улицам русских городов, в ином взыграло чувство патриотизма, а у одного из создателей парабеллума, Георга Люггера, два с лишним года назад в боях в Галиции погиб его сын Юлиус Вильгельм. Тоже можно понять человека.
Не нашлось в вагонах места лишь для создателей танков. Им Голицын не больно-то доверял, исходя из простого факта: немецкая бронетехника начала 41-го года в подмётки не годилась Т-34 и КВ-2. Иное дело – как использовать эти танки. Но если бездарно, подобно советским военачальникам в 41-м[57], тогда и самые современные машины начала следующего века окажутся бесполезными.
Нет, если бы в России танкостроение отсутствовало напрочь, то для первоначального толчка вполне годились бы даже германские инженеры. Но в том-то и дело, что имелись свои, о которых Голицын к тому времени знал.
Правда, модели у них были не ахти. У одного, сводного брата жены Блока, за которого перед Голицыным ходатайствовала в Петрограде сама Любовь Дмитриевна, урождённая Менделеева, танк вышел сверхтяжёлым, аж под сто восемьдесят тонн. Немудрено: лобовая броня – 150 мм, бока и корма немного худее, но всё равно сотня, то есть обеспечена надёжная защита даже от шестидюймового снаряда. Из вооружения – 120-мм пушка «Канэ». Словом, КВ-2 смотрелся бы в сравнении с ним карликом. Дело в том, что по своей основной профессии Василий Менделеев был корабельным инженером, потому и состряпал могучую машину, исходя из привычных флотских мерок.
У второго «танкиста», по фамилии Пороховщиков, также вышедшего на Голицына в Петрограде, танк выглядел куда приличнее. Правда, недостатки прямо противоположные – и броня хлипкая, всего 8 мм, и из вооружения – только пулемёты. Зато «броневая рубка» состояла из трёх независимо вращающихся поясов с пулемётом «Максим» в каждом. Ну и вес – менее четырёх тонн.
Опять же, скорее всего сказалась основная профессия изобретателя – лётчик плюс авиаконструктор. Вот и танк состряпал сверхлёгкий.
Но, в отличие от Менделеева, Пороховщиков успел проработать разные модели. Имелся у него и гусенично-колёсный, со скоростью во время испытаний аж сорок вёрст в час. А помимо него ещё и готовый проект лохани (так переводили в русской печати слово «tank») с водонепроницаемым корпусом, то есть, по сути, плавающий. Куда там английским или французским «гробам».
Оставалось соединить двух русских самородков, подкинув им парочку идей (гусеницы сделать пошире, поменять движок с карбюраторного на дизельный, и т. д.). А коль изобретатели не сойдутся характерами, тоже не беда. Каждому по КБ дать. Пускай в двух разных направлениях действуют – один над лёгкими танками продолжает трудиться, другой – над тяжелыми. В войне и те, и другие нужны.
Словом, перспективы вырисовывались самые грандиозные. Лет эдак через десять, да пусть пятнадцать, не горит, есть смысл рассчитывать на появление в России аналогов как Т-34, так и КВ. Да как бы не получше…
Не забыл Виталий и про сельхозтехнику. С вывозом этих немецких фабрик было тяжелее. Чай, не военные. Приходилось действовать более тонко, рисуя перед владельцами в случае переезда в Россию колоссальный рынок сбыта и, как следствие, заоблачные сверхдоходы. А чтоб вселить уверенность, обещали, что гарантируют поддержку государства и его паевое участие.
После согласия, кое следовало не всегда, но часто, оборудование со станками чуть ли не до последнего винтика демонтировалось и отправлялось в Россию. Разумеется, вместе с инженерами и рабочими.
И вскоре неподалёку от Мытищ уже возводили фабричные корпуса для бывшей немецкой фирмы «Ганомаг», выпускавшей тракторы ВД-50. Точно такие же строительные площадки для будущих заводов по производству американских тракторов «Фордзон» спешно готовили на окраинах Владимира, Рязани, Тамбова, Калуги и т. д.
…Лишь один человек из едущих в Россию при всём желании не мог прислушаться к неумолчному стуку колёс. Впрочем, он игнорировал и возможность любоваться бескрайними океанскими просторами. Направляющийся из Сан-Франциско во Владивосток знаменитый изобретатель Никола Тесла с первого дня путешествия приступил к работе, внимательно изучая техническую документацию на американские трактора, везомые в качестве первой партии на том же корабле. Цель: найти возможность их усовершенствования и максимально упростить производство после строительства соответствующих заводов по их выпуску в России.
Отдыхать он себе позволял лишь перед сном, в очередной раз с блаженной улыбкой на лице перечитывая письмо русского императора, адресованное лично ему. Привёз ему послание некто Григорий Абрамович Виленкин. Как ни удивительно, оно было не напечатано, но полностью написано от руки, притом на английском языке.
Внизу же стояла короткая подпись: «император Алексей», а ниже, в качестве постскриптума, пояснение: «Не представляюсь полным титулом, ибо государей в мире предостаточно, а Тесла – единственный». Именно эта последняя строка и побудила знаменитого изобретателя немедленно подписать контракт.
Впрочем, своё согласие он всё равно бы дал. Ведь на вопрос, чем конкретно предстоит заниматься его лаборатории в России, Виленкин заявил, что царь не намерен искусственно сужать рамки для деятельности гения такого масштаба, ни в коей мере не сопоставимого с каким-то Эдисоном. Одно это пролило бальзам на сердце Теслы, не раз обманутого при денежных расчетах тем же Эдисоном.
А вдобавок последовало продолжение.
– Именно потому лаборатория, которую вы возглавите, – твёрдо сказал Виленкин, – будет именоваться не «электротехническая» или какая-то ещё, а куда более звучно: «Лаборатория Николы Теслы».
Сам Григорий Абрамович, плывущий вместе с ним на том же корабле и сидящий в удобном кресле-шезлонге, с улыбкой наблюдал за неугомонным изобретателем. В отличие от Теслы, он мог позволить себе расслабиться, наслаждаясь морским путешествием, ибо имел на это полное право, с блеском выполнив все поручения Регентского совета.
Во-первых, организация отгрузки русского золота из канадских банков. Несмотря на скрытое противодействие англичан, слитки сейчас, по всей видимости, уже разгружают во Владивостоке.
Во-вторых, договор с Теслой. Впрочем, по времени, оно, скорее, в-третьих, поскольку ещё до разговора с ним и вручения письма царя Виленкин занялся американскими банкирами. Для заключения льготных договоров с рядом фирм по закупке сельхозмашин, а
Ознакомительная версия. Доступно 21 страниц из 105