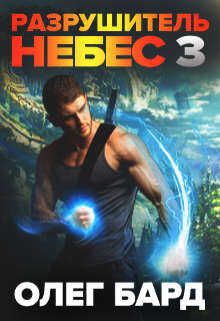показывая повтор поединка. Лицо Синали блестит от пота, ее брошенное копье торчит из бедренного щитка принцессы.
– Вы ее используете, – говорит Дождь. Литруа улыбается шире.
– Кому, как не вам, сэр Паук, знать об использовании и о том, что на самом деле оно означает.
Замыслы этого человека погубят всех. Дождь не может сообщить об этом Синали, но может положить этому конец здесь и сейчас, потратив остатки сил. Паук, пожирающий другого паука.
Оружия нет, но у него еще остались острые и твердые кости. От проекционного меча нельзя увернуться, но можно податься навстречу ему, чтобы выиграть немного места и при этом уберечь шкуру, и Дождь резко пригибается, нацелив удар кулаком в живот противника, но меч уже у него на пути, с шипением прожигает его костяшки, распространяя по переулку вонь горелого мяса. Дождь обходит защиту, но меч опять опережает его, лезвие прожигает его куртку, кожу и жилы, пока не достигает белой кости у локтя. Морозный воздух жжет рану как соль, и он визжит, что на него не похоже, как существо более громкое, неуклюжее, с меньшим количеством ног, паутины, близких. Меч рассекает оба его ахилловых сухожилия, и он, пошатнувшись, падает на колени и снизу вверх сверлит принца ледяным взглядом.
– У-у…блюдок.
Литруа улыбается:
– Как и ты. Ты сводный брат Синали фон Отклэр.
Дождь бросает взгляд на ховеркар, отъезжающий от студии, – серебристый с голубым.
– Нет. Вы врете.
– Часто. Но не теперь.
– Да не могу я быть…
– Очень даже можешь. Все, что для этого требуется, – одна ночь и два человека. Герцог Фаррис Отклэр благоразумием не отличался, что общеизвестно. В отличие от матери Синали, которая бежала из борделя и скрывалась, твоя мать умерла при родах. Хозяйка борделя связалась с Домом Отклэров, и они отдали тебя Паукам.
Дождю кажется, что его сердце разрывается от жалости к незнакомой женщине, к девочке, которая всегда была его сестрой. Улыбка Литруа становится шире.
– Позволь предложить тебе выбор: умереть здесь или помочь мне защитить ее.
– Защитить? – Дождь сплевывает кровь. – Вы используете ее, чтобы развязать новую войну. Боевой жеребец, которого сделала ваша мать, и та штука у него внутри… – он издает прерывистый хрип. – Я же видел. Последний выживший управляет всеми, приказывает им, говорит, что делать. Держит их в подчинении. У королевы не было перегрузки – она кормила то, что внутри у Разрушителя Небес. И Синали кормит его все это время… как королевские наездники. Тот, что в Адском Бегуне, хорошо откормлен, он сильнее – гораздо сильнее. А вы пытаетесь породить нового, чтобы свергнуть прежнего.
Литруа лишь терпеливо улыбается, глядя на него сверху вниз.
Везде, где ранен Дождь, обожженную плоть невыносимо тянет, боль вспыхивает с каждым вдохом, пока он заключает:
– Мертвых не вернешь.
Литруа улыбается так, что его глаза становятся узкими щелками.
– Да, но, сэр Паук, что, если они никогда и не были мертвыми?
69. Конфрактус
Confractus ~a ~um прил.
1. (о поверхности) потрескавшийся
В Лунной Вершине есть дверной звонок, и я впервые слышу, как он звонит.
Киллиам не отвечает, как и Дравик. Кто бы это ни был, трезвонит он настойчиво, так что я иду в холл и смотрю на экран. Рослый, широкий в груди, с растрепанными волосами оттенка платины. Ракс. Я выдыхаю. Остался один круг, и я в четвертьфинале. Как только я выиграю этот поединок, Дом Отклэров будет уничтожен. Только это и важно.
Я приоткрываю дверь, и глаза Ракса, с их теплым оттенком красного дерева, вспыхивают при виде меня.
– Отклэр! Ты…
– Тебе здесь делать нечего, – обрываю я. Напряжение на его львином лице становится отчетливее.
– Знаю, но… теперь я понимаю, что ты имеешь в виду. Насчет воспоминаний. Я довел себя до отключки в седле, видел некоторые твои, и…
Я каменею.
– А тебе не приходило в голову, что я, может быть, не хочу, чтобы ты видел мои воспоминания?
– Просто… так вышло. Я не выбирал, что видеть.
Представляю, что он видел мою жизнь – убожество, детские радости, боль, бордель… Тело тянется к нему, ищет утешения в его объятиях, но разум не так прост. Я отступаю, чтобы закрыть дверь.
– Ее отец мертв, – выпаливает Ракс. Есть только одна «она», которую знаем мы оба. – Ее отец был… – он медлит, борясь с реальностью. – Убит. Из-за тебя… – у него вздрагивает кадык. – А мои сообщения до сих пор блокируются, вот я и…
Он обводит меня взглядом, словно блуждает, запоминает, стремится. К истине, ко мне… не знаю, к чему именно. Его чувства никогда не имели значения. Здесь реальность, а не седло, а в реальности мы совершенно разные звери в разных садах. Но он принес мне последнюю деталь головоломки, благодаря которой сложилась картина в целом: холодная ярость Мирей на тройной пресс-конференции имела причину. Теперь она знает, каково это – потерять близкого человека, которого любишь. Истреблять себе подобных – это у Отклэров в крови, этому я научилась у отца. Мирей – невеста Ракса, так что он, конечно, встревожился, ведь его будущий тесть умер из-за меня.
Теперь это и его семья.
– Ты дрожишь, – прерывает мои мысли его голос. Я поднимаю глаза и вижу, что моя рука, придерживающая дверь, в самом деле трясется. Дотянувшись, он охватывает теплыми пальцами мои холодные руки, и я борюсь с желанием прильнуть к нему, рассказать обо всем – о садах, головах, ядре, о том, что находится внутри у Разрушительницы Небес. Если я скажу ему правду, это лишь приблизит его к шахматной доске. Он прекрасный наездник, но из него получится плохая пешка, а эта шахматная доска слишком тяжела для его беспечной улыбки.
Я не желаю тебе смерти.
– Если отец Мирей мертв, – говорю я, – значит, он был одним из семерых, которые убили мою мать.
На его лице вспыхивает боль, делая его опустошенным, но он быстро приходит в себя.
– Тебе незачем продолжать в том же духе, Отклэр.
Мое сердце падает. Неужели он так и не поймет? выпрямись. держись.
– Есть зачем, – возражаю я. – Это возмездие.
– Лучшее возмездие, или как там эта хрень называется, – идти вперед, жить хорошо. И пусть себе возятся в том дерьме, в которое вляпались.
Я смеюсь:
– Я оставлю их в покое, а они будут процветать? Думаешь, хоть кто-нибудь из блистательных Отклэров задумался бы о том, что у них на руках кровь бастардки и ее больной матери? И они не стали бы превозносить свое единство после моей смерти? И свою «сбереженную честь»? И жить еще