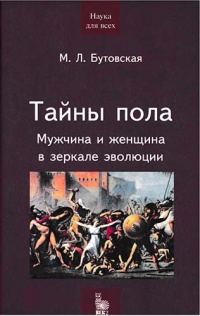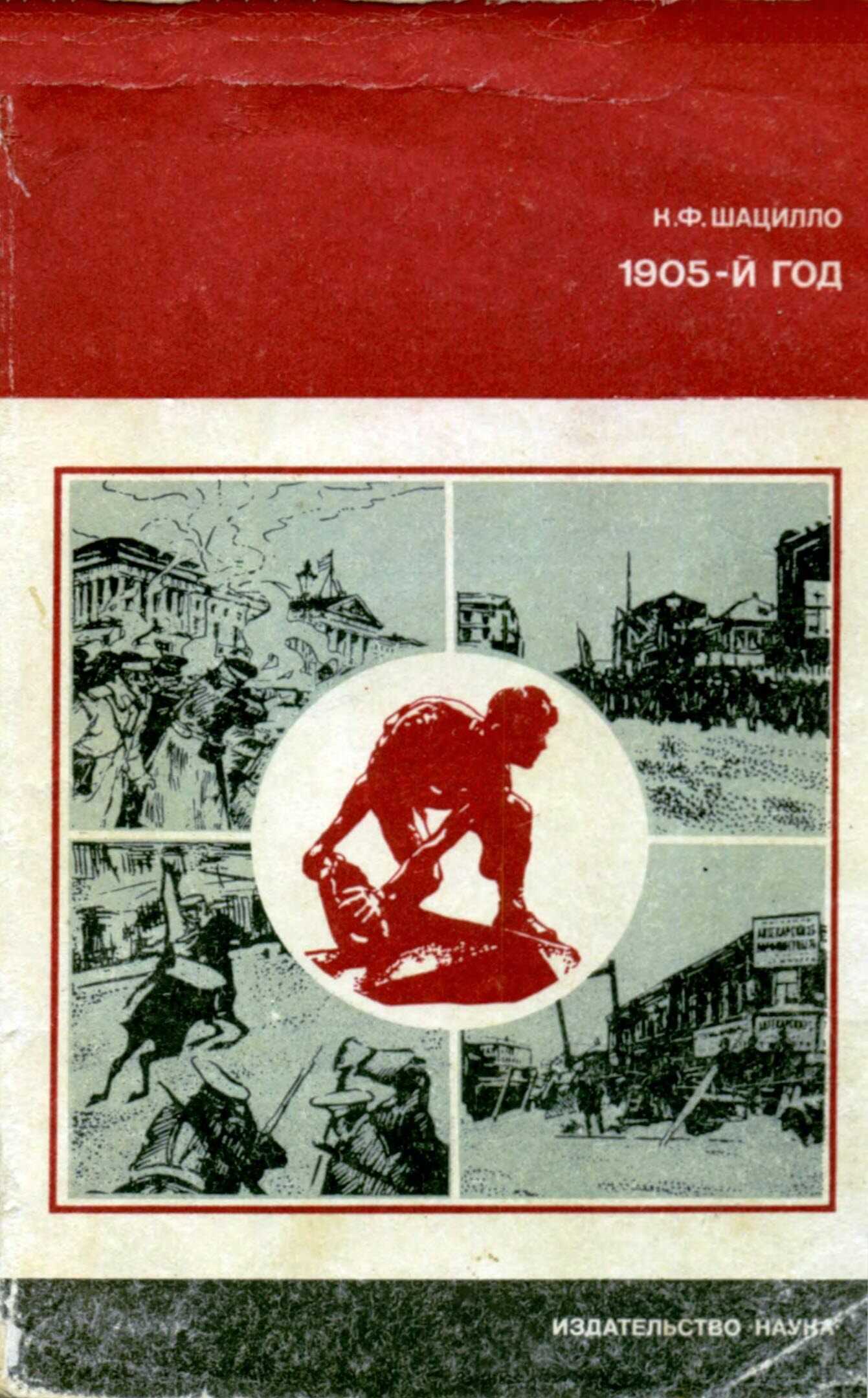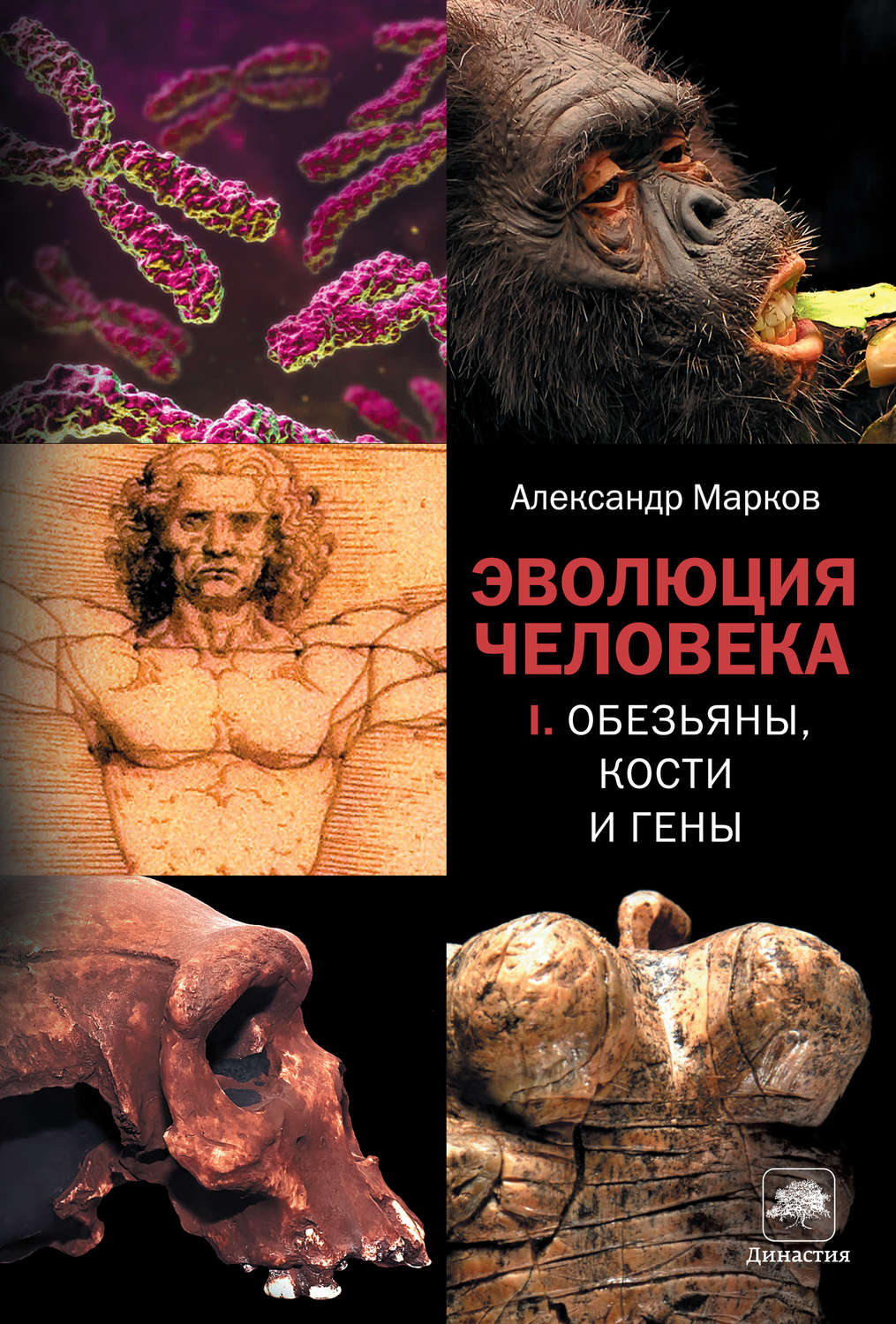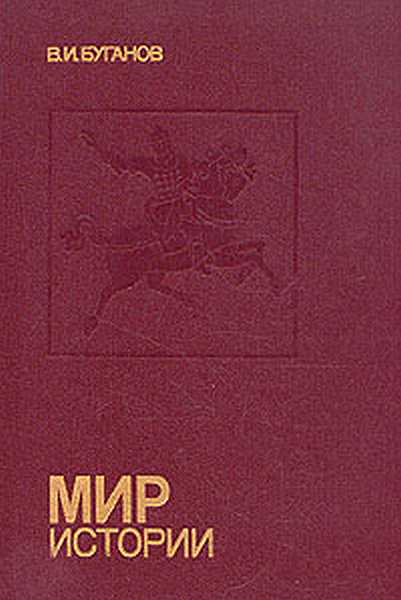не знали об этих страницах истории своей страны и искренне удивлялись, услышав о более чем трёхсотлетней саге сей кровавой традиции. А уж поколение 30-40-летних, как показывает мой личный опыт, пребывает в полном неведении: услышав о поединках на ножах в Испании, они разражаются весёлым смехом и, соболезнующе похлопывая по плечу, советуют меньше смотреть экранизации «Кармен» и романтические костюмные сериалы.
Дольше всего культура народных дуэлей на ножах продержалась в наиболее удалённых и труднодоступных регионах бывших испанских колоний. Свидетельства о бытовании подобных поединков оставили нам многие пилигримы, и среди них известный швейцарский фото граф Рене Барри, посетивший Аргентину в 1958 году. На нескольких его снимках запечатлены лихие гаучо с ранчо Ринкон де Лопес, развлекающиеся дружескими схватками на ножах[85]. Но в отдельных регионах дуэльная традиция протянула значительно дольше. Ещё во второй половине 1980-х, а кое-где и позже законодательство стран Латинской Америки даёт дефиницию народных дуэлей и устанавливает ответственность за участие в подобных поединках.
Так, постановления Верховного суда Аргентины, датированные серединой 1960-х, сообщают, что народные поединки на ножах, также известные как «креольская дуэль», не могут классифицироваться как легитимная самооборона[86]. А комментарии к уголовному кодексу 1965 года дополняют, что «добровольное согласие на участие в так называемой креольской, или нестандартной дуэли исключает признание её легитимной самообороной. Но если обвиняемый был вынужден сражаться с пострадавшим, то это уже не является добровольным принятием вызова, что может быть признано смягчающим обстоятельством»[87]. Из чего можно сделать закономерный вывод, что в Аргентине закон ещё долго не только признавал существование народных поединков на ножах, но и классифицировал их как одну из форм дуэли.
В качестве иллюстрации можно привести поединок между известным аргентинским писателем и драматургом Дальмиро Антонио Саенсом и поэтом-гаучо доном Хулио Кабесасом, имевший место в 1966 году.
По соглашению сторон «креольская» дуэль должна была длиться до первой крови. Вскоре после начала схватки Кабесас ранил своего неопытного противника в предплечье и почти одновременно с этим вторым ударом кинжала рассёк Саенсу лоб. Кровь залила лицо, и бой был остановлен. Противники пожали друг другу руки, и дон Кабесас похвалил драматурга за проявленное мужество. Этот инцидент стал достоянием общественности и широко освещался прессой.
Рис. 44. Дуэль Дальмиро Саенса (слева) и Хулио Секундино Кабесаса. Романтик против опытного бойца.
Рис. 45. Саенс и Кабесас на обложке журнала «Gente», 1966 г.
Так, например, статья, посвящённая этой дуэли, иллюстрированная фотографиями с места поединка, вышла в том же году в популярном аргентинском журнале «Gente»[88].
Дальмиро Саенс всю жизнь гордился своим участием в поединке с Кабесасом и неоднократно описывал эту историю в автобиографических работах[89]. Хотя после этого поединка в аргентинских литературных кругах муссировались слухи, что поединок был специально организован Саенсом в рекламных целях и по предварительной договорённости с журналом «Gente». Догадывался ли об этом Кабесас, или его использовали втёмную, сие есть тайна, покрытая мраком.
Рис. 46. Забияка с навахой. Испанская карикатура, 1894 г.
В отличие от своих бывших заморских колоний в Латинской Америке, где и сегодня поединки на ножах явление привычное и заурядное, в самой Испании в силу описанных выше причин эта кровавая традиция сохранилась лишь в рамках нескольких замкнутых групп. Во «Всемирной истории поножовщины» я отмечал, что, для того, чтобы какие-либо архаичные обычаи пережили все катаклизмы, испытываемые страной на протяжении столетия, необходимо существование определённой питательной среды и выполнение целого ряда условий.
В первую очередь с уходом массовой традиции должна присутствовать достаточно консервативная замкнутая группа, минимально подверженная воздействию внешней среды — общественным изменениям и социальным потрясениям. Также эта группа должна характеризоваться определённой асоциальностью и ортодоксальной приверженностью традициям. В идеале — труднодоступность Для исполнительной власти: горы, степи, пампа, острова, изолированные регионы. Именно поэтому сохранившиеся архаичные обычаи и традиции чаще всего можно встретить именно в труднодоступных районах. В Южной Европе это всегда были горы Сицилии, Сардинии, Калабрии, Балкан, Ионических островов, Корсики. В городах эту функцию «заповедника», как правило, традиционно выполняли две основные группы: организованная преступность и этнические диаспоры. В Южной Италии таким «консервантом» стали региональные преступные сообщества: каморра, мафия и ндрангета, а также цыганские общины Апулии, Сицилии, Рима, Милана и Неаполя.
Рис. 47. Испанские бандиты с навахами преследуют жертву, 1845 г.
В Испании ножевая культура сохранилась практически только в рамках общины кало, преимущественно на юге страны — в Андалусии, а также в Валенсии и некоторых других регионах. Из всех национальных диаспор Испании цыганская община традиционно является одной из наиболее закрытых, и сегодня в силу объективных, рациональных и вполне понятных причин хитанос, как и сто лет назад, не стремятся афишировать обучение владению навахой. Как я уже говорил, не в последнюю очередь это обусловлено устойчивой негативной репутацией ножей и поножовщиков в глазах общественного мнения. Однако в пользу того, что эта традиция до сих пор жива и продолжает существовать в рамках цыганской диаспоры Испании, свидетельствуют и уже упомянутые результаты опроса испанских школьников. Приведу небольшую, но показательную подборку отзывов респондентов: «Я не хотел бы иметь в классе цыган — они плохие, ходят с навахами и решают с ними все проблемы» (12-летний ученик гос. школы из Эстремадуры); «Цыгане действуют бандами и грабят, а если ты откажешься, то они пустят в ход свои навахи» (мальчик 12 лет, учащийся частной школы, Мадрид); «Я бы не женился на цыганке — у них на свадьбах часто дерутся на навахах» (юноша 18 лет, Кастилия); «В основном дискриминация связана с тем, что мы их боимся, потому что они носят навахи» (14 лет, Эстремадура); «С детства их учат обманывать, и они носят небольшие навахи» (девочка 11 лет, Каталония); «Они агрессивны и сразу достают наваху» (девочка 11 лет, Каталония); «Мне не нравится, что они грабят и угрожают навахами» (Андалусия); «Они всегда высмеивают беззащитных и грабят с навахами» (Мадрид); «Если вы не дадите им то, что они хотят, они воткнут в вас наваху, оставят лежать и всё заберут» (Мадрид); «Мне не нравится, что ты спокойно идёшь по улице, а они выхватывают наваху» (Мадрид); «Мне не нравится, что, когда вы гуляете по улице, они ударят вас навахой, и вам придётся бежать в больницу» (Эстремадура); «Они носят навахи и очень опасны» (Андалусия); «С детства они ходят с навахами» (Андалусия); «Цыгане отличаются от