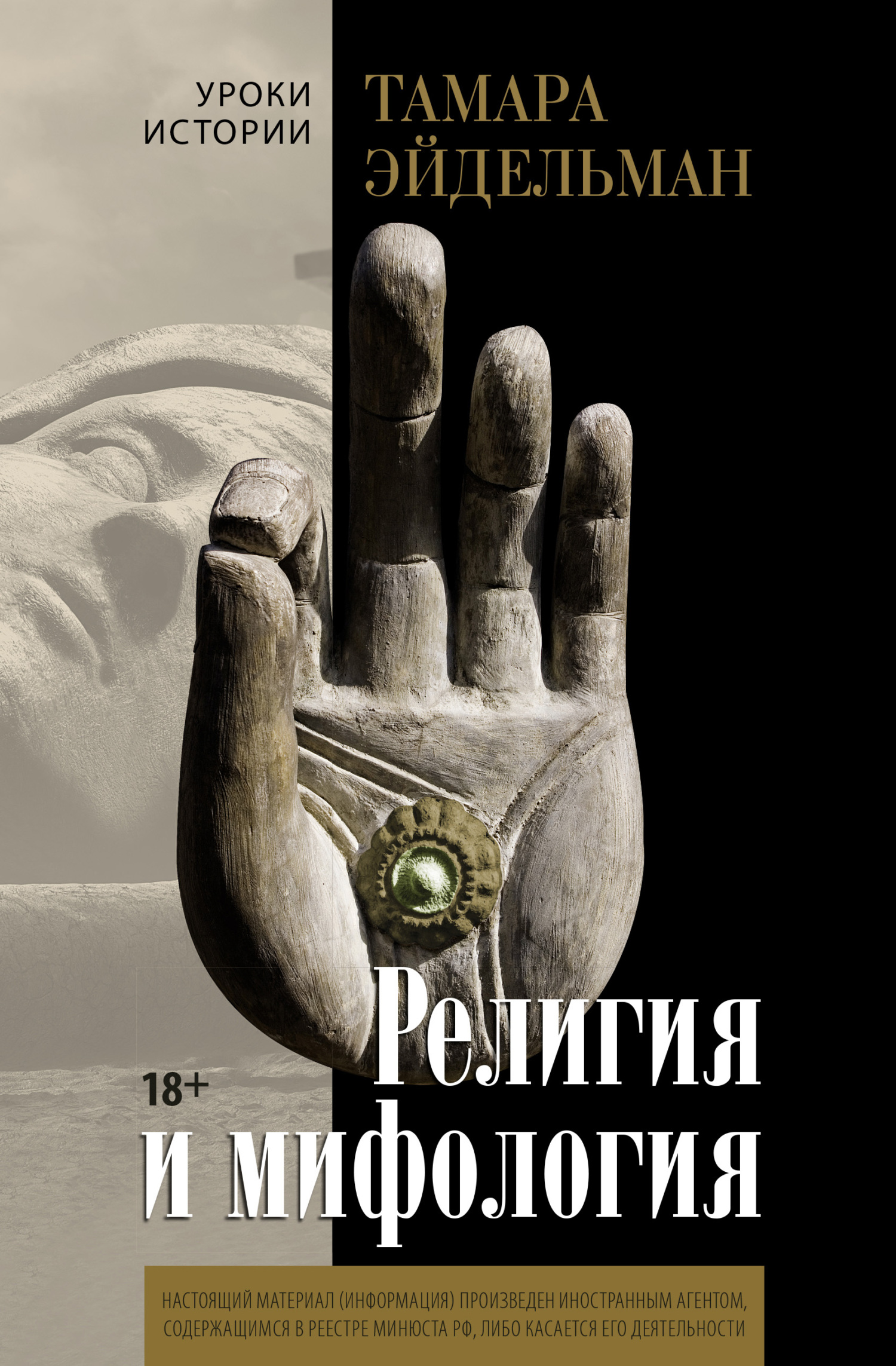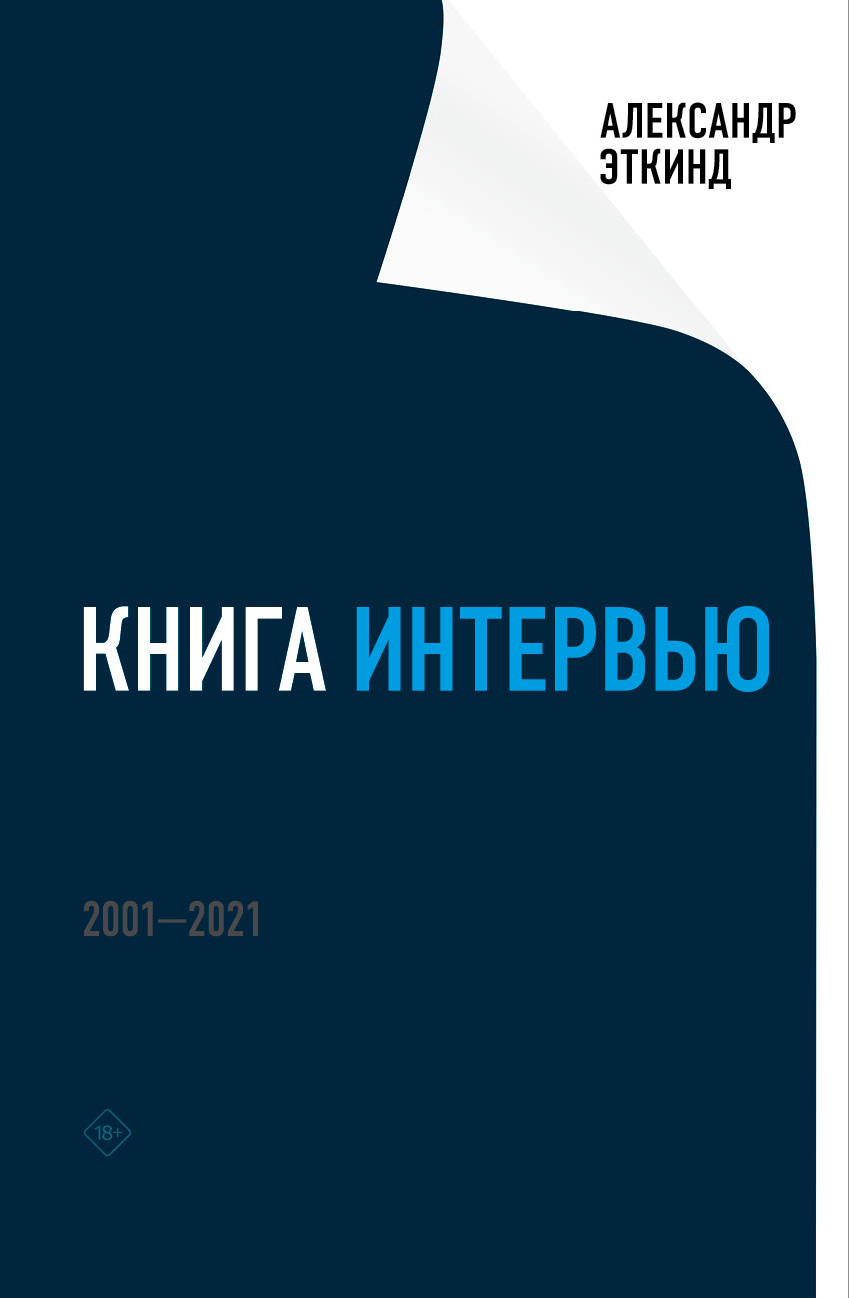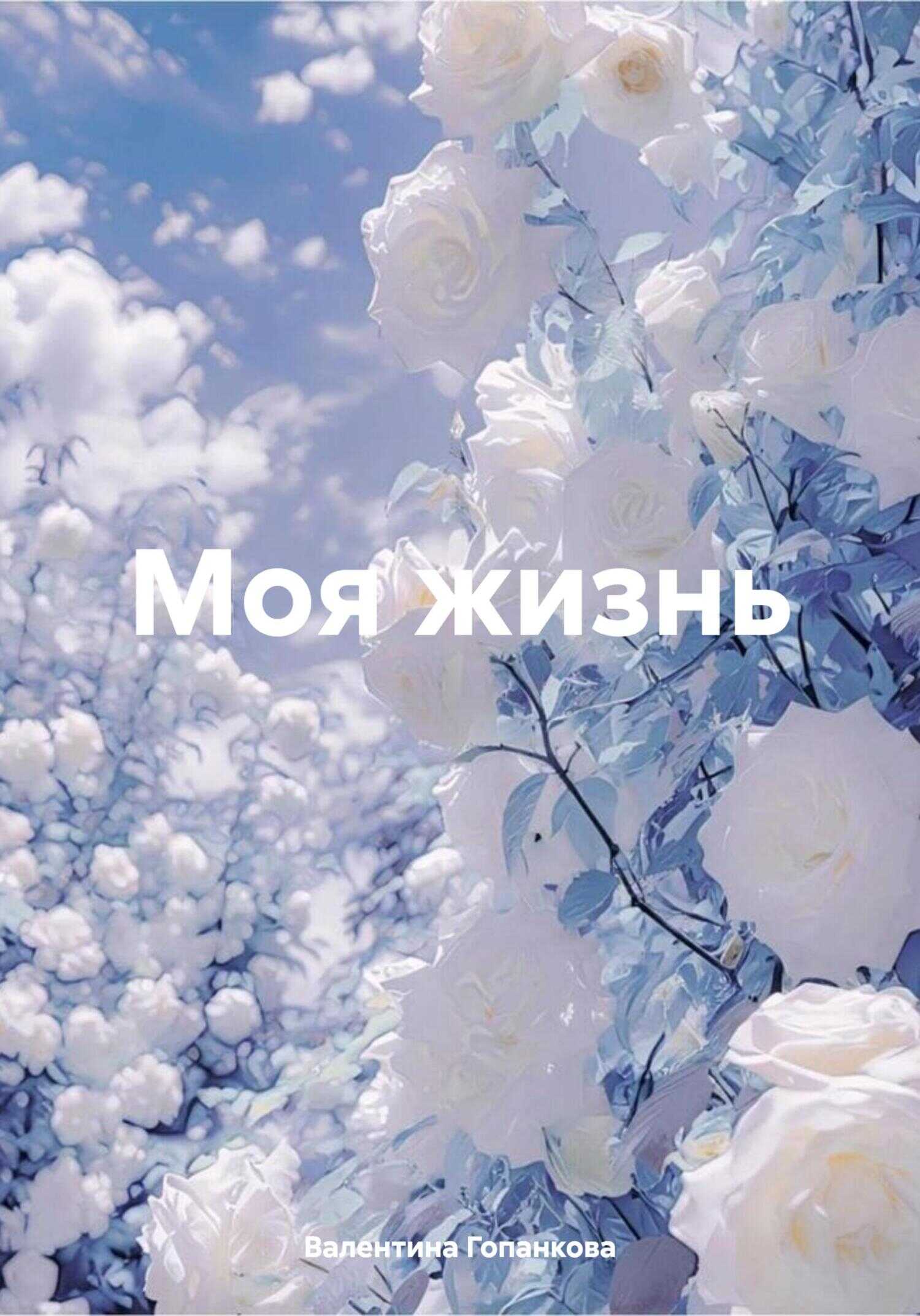политических лидеров на пьедестал исторического мифа. Руководство космической отрасли даже сделало показательный символический жест, замуровав капсулу с космическими документами и артефактами в основание настоящего памятника «Покорителям космоса», открытого в Москве в 1964 году. В недавно рассекреченном ходатайстве от группы руководителей отрасли советским политическим лидерам предлагается:
В память о выдающихся исторических достижениях советского народа в освоении космического пространства и в целях сохранения навечно документации и других материалов о полетах советских космических кораблей целесообразно замуровать в специальных ампулах у монумента, сооруженного в Москве в ознаменование выдающихся достижений советского народа в освоении космического пространства[,] документацию[,] киноленты и модели советских искусственных спутников Земли, космических станций[,] космических кораблей и использовавшихся при полетах советских космических объектов важнейших научных приборов121.
Точно такой же набор тщательно отобранных документов и артефактов был размещен в экспозиции музея, построенного под монументом. Космическая история была написана раз и навсегда. Главный нарратив был защищен от сомнений каменной стеной. Этот нарратив, однако, не был монолитен: разные его части сочинялись разными акторами со своими собственными целями, его раздирали внутренние противоречия и разъедали контрвоспоминания, культивируемые участниками космической программы.
Контрвоспоминания советской космической программы
Личные воспоминания, не вмещавшиеся в главный нарратив, продолжали жить неофициально, прячась под глянцевой поверхностью официальной истории. Мириады частных историй сформировали устную традицию, совершенно отдельную от письменных повествований. Историки традиционно связывают такие контрвоспоминания «в тени официальной истории» с группами, которые были «исключены или обойдены вниманием»122. Однако в советской космической программе космические инженеры и космонавты, культивировавшие такие контрвоспоминания, наоборот, находились в центре внимания официальной истории. Именно благодаря своему привилегированному положению они имели доступ к информации, закрытой для обычного советского гражданина. «Настоящая правда» об исторических событиях, умалчиваемая или приукрашиваемая в официальных отчетах, стала важной частью их групповой культуры. Личные воспоминания, которыми они делились друг с другом, формировали их чувство профессиональной идентичности как космонавтов или инженеров, в то время как их публичный образ должен был соответствовать главному нарративу123.
Контрвоспоминания часто не выходили за пределы частной сферы не из-за явного редакторского давления, а из-за самоцензуры. Например, когда корреспондент ТАСС попросил известного конструктора космических аппаратов Михаила Тихонравова поделиться его впечатлениями о Гагарине, тот ответил:
…Я первый раз встретился с Гагариным, еще не зная, что он будет первым. Он сдавал экзамен по физике. И я ему поставил четверку. И это из-за того, что он не знал сложения скоростей. Напутал там что-то, в общем, не так сложил силы. Потом мне кто-то говорит: «Это же наш лучший, наиболее перспективный человек. Нельзя ли ему натянуть как-нибудь на пятерку. Спросите его еще раз. Если ответит, то поставьте ему пять». И мне пришлось снова его спросить. В этот раз он мне ответил все, и я ему поставил пятерку.
Вычитывая расшифровку интервью перед публикацией, Тихонравов сделал на полях отметку: «Это я рассказал только для Вас. Не следует это опубликовывать»124. Такие воспоминания могли распространяться лишь частным образом, не поднимаясь на поверхность публичного дискурса.
Инженеры и космонавты болезненно относились к явному разрыву между их личными воспоминаниями и официальной историей. Вынужденные на публике действовать в соответствии с официальной линией, они давали выход своему недовольству в дневниках и частных беседах. «Почему мы говорим неправду?» – написал однажды в своей записной книжке Черток, размышляя над практикой сокрытия многочисленных неудачных пусков от общественности125. Космонавтов также раздражала необходимость говорить «полуправду-полуложь», искажая свои рассказы так, чтобы умолчать о сбоях и не войти в противоречие с официальной версией событий126. Однако и космонавты, и инженеры научились извращать правду с большой точностью и искусством. Хотя идеологические ограничения и цензура очевидно были навязаны космическому сообществу извне, набор предписанных стереотипов предоставил инженерам и космонавтам возможность выставить себя в лучшем свете. Инженеры приукрашивали отчеты для начальства; космонавты наслаждались своим статусом знаменитостей и безупречных героев.
Космические журналисты, чьей работой было распространение официального дискурса, в то же время в частном порядке жаловались на цензуру. «Все наши репортажи – полуправда, которая часто хуже вранья»,– писал Голованов в своем дневнике127. Когда весь остальной мир смотрел в прямом эфире репортаж о полете «Аполлона-8», советское телевидение показывало детский фильм. «Неужели в ЦК сидят такие дремучие люди, что они не понимают, как это глупо и стыдно?!» – удивлялся по этому поводу Голованов128. Когда отложили публикацию его статьи об «Аполлоне-11», он снова выпустил пар в личной записной книжке: «Меня стыд терзает. Неужели опять такой позор?»129
Одни и те же люди – журналисты, космонавты и ведущие инженеры – одновременно и писали официальные отчеты, и делились личными контрвоспоминаниями. Дискурсивный разрыв пролегал прямо через их души. В дневнике Каманина можно найти свидетельства его постоянных колебаний между публичным и частным модусами выражения. Например, в декабре 1968 года он написал статью для «Красной звезды», газеты советских Вооруженных сил, о предстоящем запуске «Аполлона-8». Каманину пришлось смягчить новость о безоговорочном успехе американской лунной программы. Он озаглавил свою статью «Неоправданный риск» и гневно осудил в ней американских политиков за то, что они подвергают опасности жизни астронавтов в полете, который легко могла осуществить автоматика. Естественно, он не упомянул, что в Советском Союзе была своя секретная лунная программа пилотируемых полетов. В своем дневнике, однако, он честно признал, что американцы вырвались вперед в лунной гонке. Он осудил советских руководителей, которых считал истинными виновниками,– руководство партии, высшее военное командование и высокопоставленных руководителей космической программы – за то, что они слишком долго пренебрегали лунной программой или задали ей неверное направление. «У них нет ни времени, ни знаний для конкретного руководства освоением космоса,– писал он в своем дневнике.– Промышленность запаздывает с выполнением плановых заданий, изготавливает технику наспех и некачественно, из-за этого сроки пусков кораблей часто переносятся»130.
В своем дневнике Каманин осуждал именно то, что практиковал в своей повседневной работе. Он являлся редактором и неофициальным цензором популярных публикаций о космосе. Когда Терешкова пожаловалась ему, что в написанной за нее автобиографии многое приукрашено, Каманин признал, что журналист следовал стереотипам и допустил немало расхождений с реальностью, но заключил, что вносить правки уже поздно, поскольку книга должна успеть выйти к третьей годовщине полета Гагарина. В частном порядке он сожалел о банальностях в литературе о космонавтах, отмечая, что «самое интересное в нашей космонавтике строго засекречено». Он возражал против официального запрета на публичные сообщения о сбоях оборудования и экстренных ситуациях во