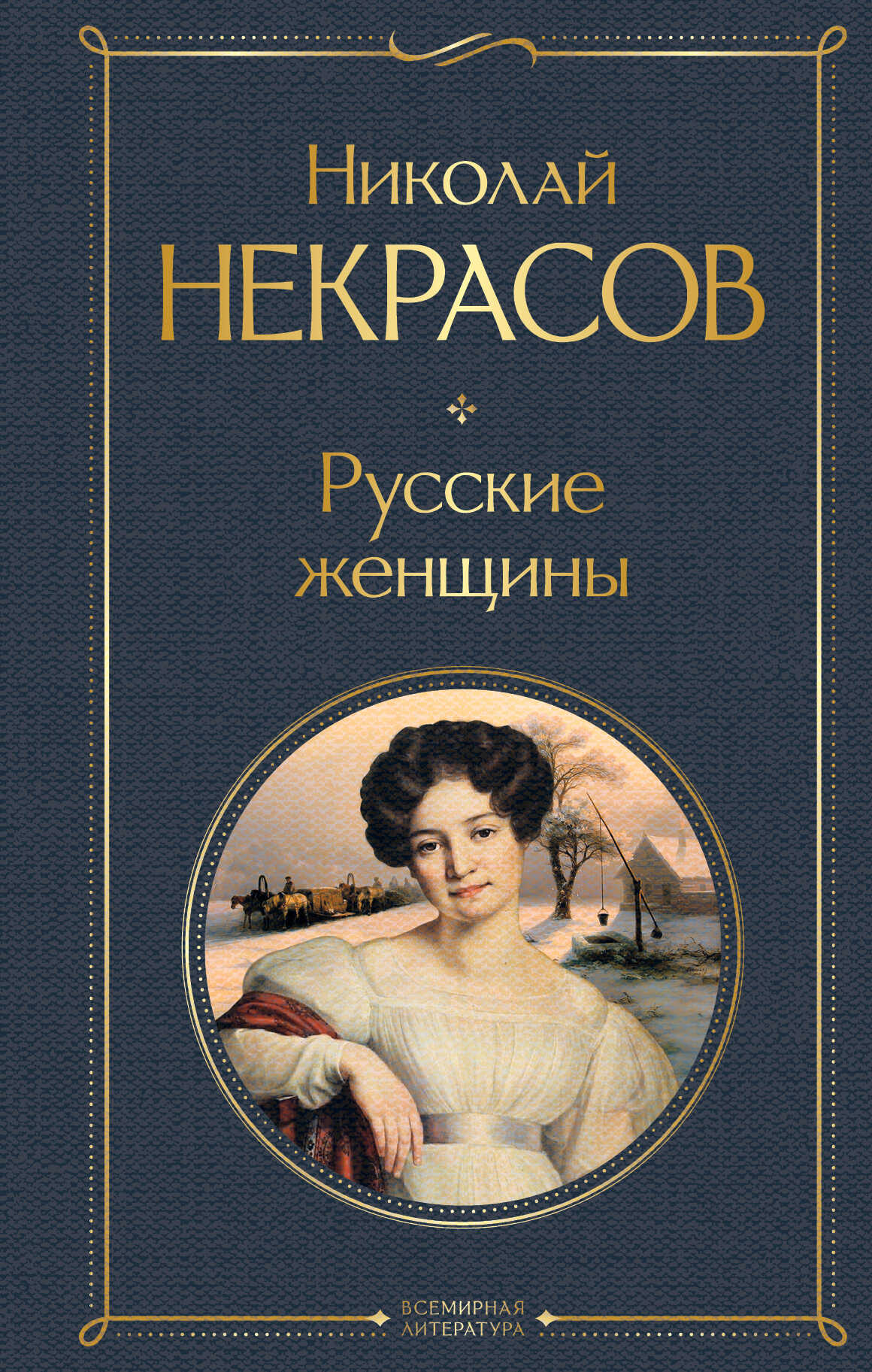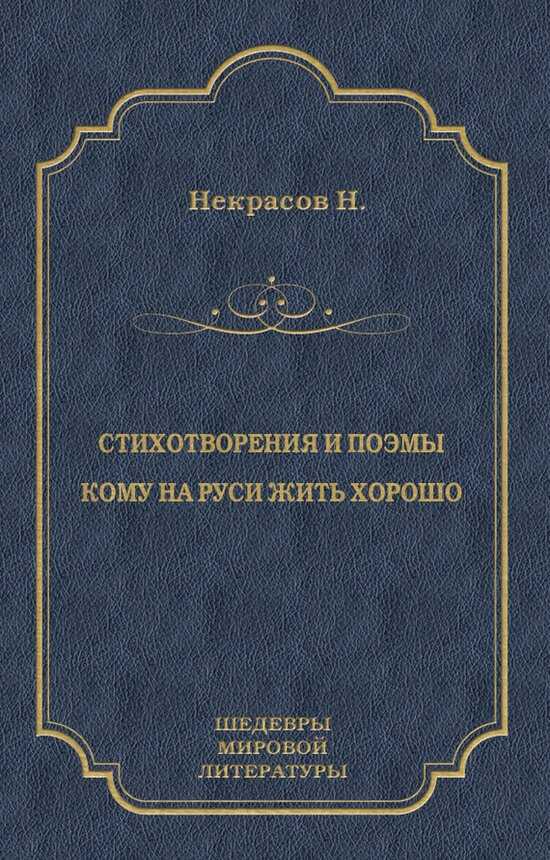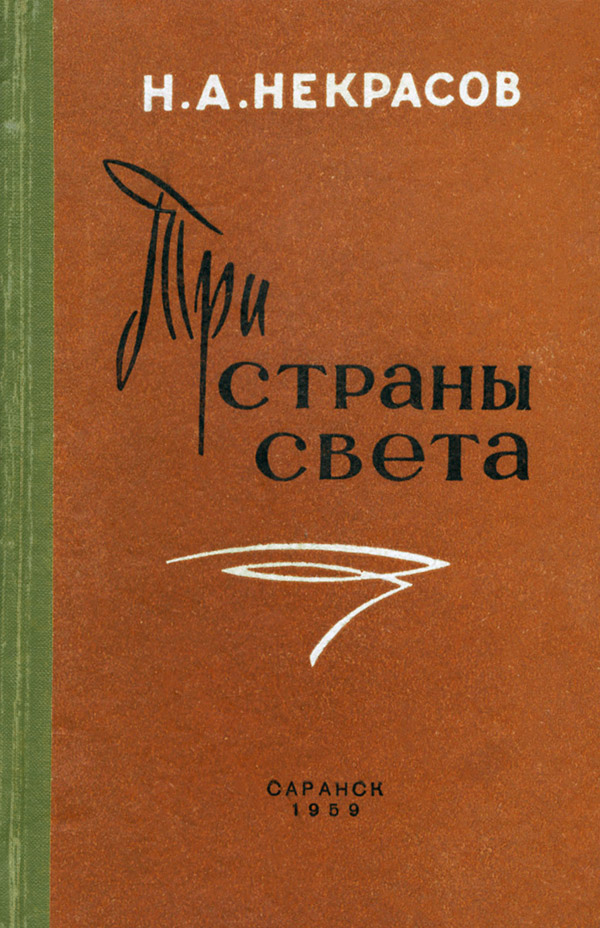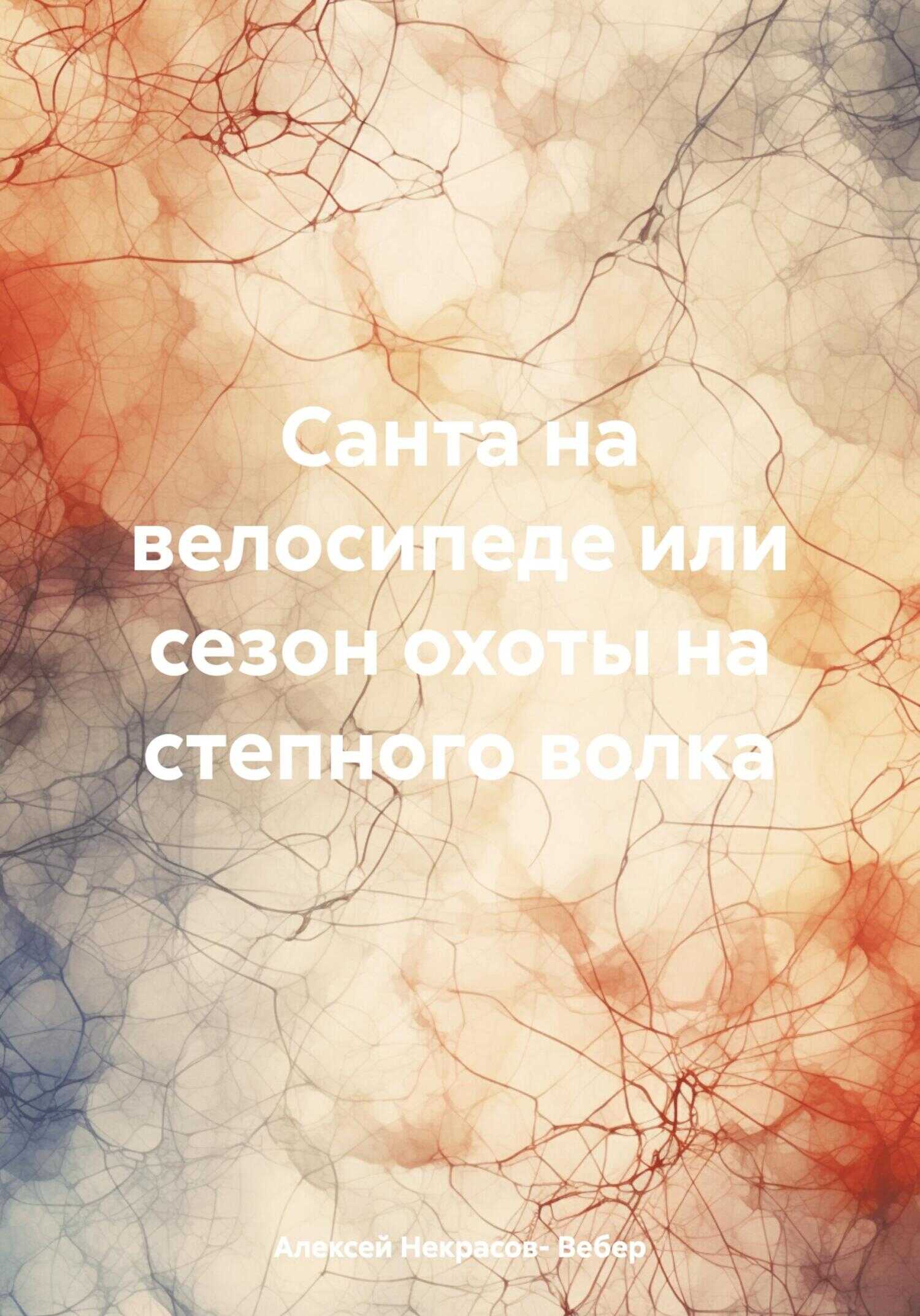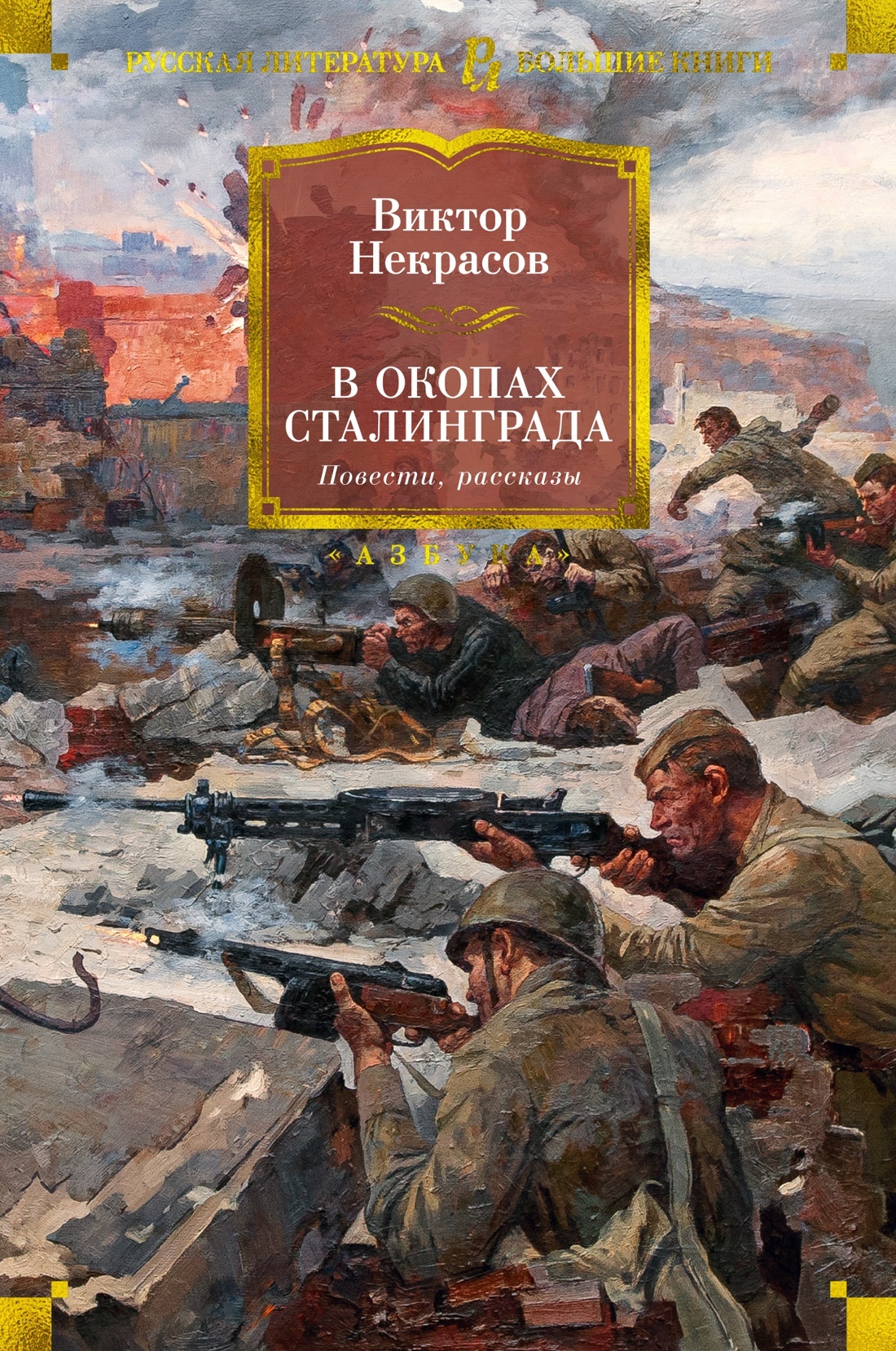Ознакомительная версия. Доступно 8 страниц из 38
бигузорад. Хушбахт бош. Дуогуи саломати туам – Рустам[9]».
Я сидел, обхватив голову руками и раскачиваясь из стороны в сторону. Воспоминания нахлынули на меня – и буквально смели, как в минуту сметает горный сель кибитки кишлака. Господи, я ему даже ни разу не позвонил. Ну да, много хлопот… суматоха устройства… счастье… а потом несчастье… но позвонить-то мог бы. Ах, стыдоба!.. Может быть, он даже не знает, что случилось. Скорее всего, конечно, знает, слухи расходятся быстро… известия летят, как птицы, особенно если черные.
Я сел к телефону.
По автоматической связи соединения почему-то не получалось. Тогда я заказал звонок через коммутатор.
Минут через десять аппарат запиликал.
– Говорите, – сказала девушка-телефонистка.
– Алло! – сказал я.
– Алло? – послышался женский голос, показавшийся мне испуганным.
– Шаби руз. Ман бо Рустам метавонам гап?[10]
– Бо Рустам?[11] – переспросила она.
– Бале, бо Рустам[12].
– Вай нест[13], – сказала женщина.
– Вай чун хоҳад шуд? Баъдтар занг?[14]
Она молчала. Потом ответила:
– Вай хоҳад набуд[15].
– Почему? – тупо спросил я по-русски.
Она всхлипнула.
– Его стрелили, – сказала она. – Месяц назад люди пришли – и стрелили.
Теперь я молчал.
Потом просто положил трубку.
8
Должно быть, именно так погибала Атлантида: загудела земля, предвещая дрожь и конвульсии. Страшной судорогой свело ее косное тело, стало оно колоться, раскаленная магма поперла из трещин, прогнулась казавшаяся незыблемой материковая плита, и нахлынули в котловину волны времени – громокипящие, камнекрушащие.
А когда все было кончено, когда ничего не осталось, на успокаивающихся волнах качалась только эта подаренная Рустамом книга.
Она оказалась, в сущности, единственной нитью, что еще кое-как связывала меня с прошлым. Все иное исчезло, разрушилось, кануло в небытие. Мне казалось подчас, что я вовсе никогда не жил в Душанбе – не бегал по его дворам мальчишкой, не ходил по улицам юношей, не учился в университете, не дружил, не любил… Нахлынули волны душемертвящие и, сделав свое, отступили, и теперь вокруг лишь безжизненная гладь моря, только где-то под толщей воды, запутавшись в водорослях, пучат глаза синие мертвяки.
Университетский курс когда-то прошел для меня не совсем даром, многое мне рассказывал Рустам, в связи с нашими разговорами я потом и сам кое-что почитывал, да и греческий в свое время я тоже неспешно поучивал, – короче говоря, я оказался более или менее готов ознакомиться с тем, что попало мне в руки.
Во-первых, это был кодекс – то есть не свиток, а именно книга: из отдельных сфальцованных тетрадей, крепко переплетенных в кожу. Восемь тетрадок, каждая по четыре страницы, всего тридцать две. Материал – бомбикон, сиречь бумага. Причем бумага хорошая – добрая средневековая бумага, скорее всего итальянская: тонкая, плотная, лощеная, гладкая, обработанная костным клеем. Стиль письма – минускульный. Папирус позволял использовать унциальное письмо, когда буквы заметно отстоят друг от друга, – ведь папирус был дешев, трудолюбивые египтяне в несметных количествах поставляли свою продукцию по всему миру, пока в конце концов напрочь не истребили само растение, прежде непроходимыми зарослями покрывавшее берега Нила по всему его течению. Тогда на смену папирусу вынужденно пришел пергамен – особо выделанные овечьи кожи. Это был несравненно более дорогой материал. А потому и манера письма резко изменилась: буквы стеснились, чтобы занимать меньше места, появились лигатуры, связывающие их между собой. Это и называлось минускульным стилем.
Кроме того, в начале книги наличествовал пинакс – то есть оглавление, а самому тексту предшествовала лемма – краткое описание всего произведения.
И то и другое свидетельствовало о довольно позднем происхождении труда. В самом начале XIII века Константинополь был взят приступом и разграблен крестоносцами (с этого момента стало уже не до переписи книг, во всяком случае масштабы этой деятельности значительно уступали прежним), а в 1453 году город и вовсе пал под напором турок, увлекая за собой на дно истории и саму Византийскую империю. Короче говоря, общие исторические соображения в сочетании с материалом книги – бумагой, ее языком – греческим, и минускульным стилем письма не могли не привести к выводу, что оказавшийся у меня в руках кодекс был создан в XI, самое позднее – в начале XII века от Рождества Христова.
Вторая половина тома зияла пустыми квадратами и прямоугольниками. По идее, они тоже должны были быть заполнены иллюстрациями – такими же чудными миниатюрами, что украшали первые восемнадцать страниц. Однако работа почему-то не была доведена до конца. В чем я был совершенно уверен, так это что никогда не узнаю, почему именно.
В самом конце, под последней строкой текста, бисерным унциалом было выведено имя переписчика: Афанасий Патрин.
Что касается основного корпуса текста, то он представлял собой энкомий – аналог жития, объектом которого, в отличие от традиции агиографической литературы, предстает не мученик, не аскет, не святой, а лицо светское: император, полководец. В данном случае это было описание многострадальной жизни неведомого мне царя Дариана. Я обратился за помощью к одному из институтских профессоров, довольно известному византиевисту. Несколько раз переспросив, он нахмурился и потер лоб, а в итоге только пожал плечами: ему тоже никогда не встречалось это имя.
Осторожно пролистывая реликвию впервые, я вдобавок обратил внимание на большое количество схолий – комментариев, пометок на полях. Переписчики часто делали их в процессе работы, Афанасий Патрин не являлся исключением.
Кое-какие из них мне удавалось прочесть, как говорится, с налета, но большая часть открывалась очень и очень нехотя: мне казалось, я физически чувствую скрежет, с каким в моем мозгу складываются эти скорописные (часто еще и с использованием загадочных сокращений) пометки.
Те, что поддались первыми, говорили сами за себя: это были записи бытового или, можно сказать, делового характера, совершенно не имевшие отношения к содержанию самой книги.
Я мог вообразить, как Афанасий Патрин, работая над своим изделием, сидит на высоком стуле, поставив ноги на табуреточку и положив книгу на колени. (Может быть, впрочем, он уже пользовался столом, они появились уже в конце IX века.) Так или иначе, в правой руке он держит калам, время от времени окуная его в расположенную справа же глиняную чернильницу. Слева разложены инструменты, которые используются им в работе. Тонкая свинцовая пластинка служит для разлиновки столбцов, а циркулем или пункторием удобно размечать строки, чтобы они равно отстояли друг от друга. Канон, то есть линейка, нужен, чтобы провести грифелем тонкую черту: на нее, как на проволоку, переписчик станет потом вешать своим каламом чернильные буквы. Назначение перочинного ножа понятно по названию. И
Ознакомительная версия. Доступно 8 страниц из 38