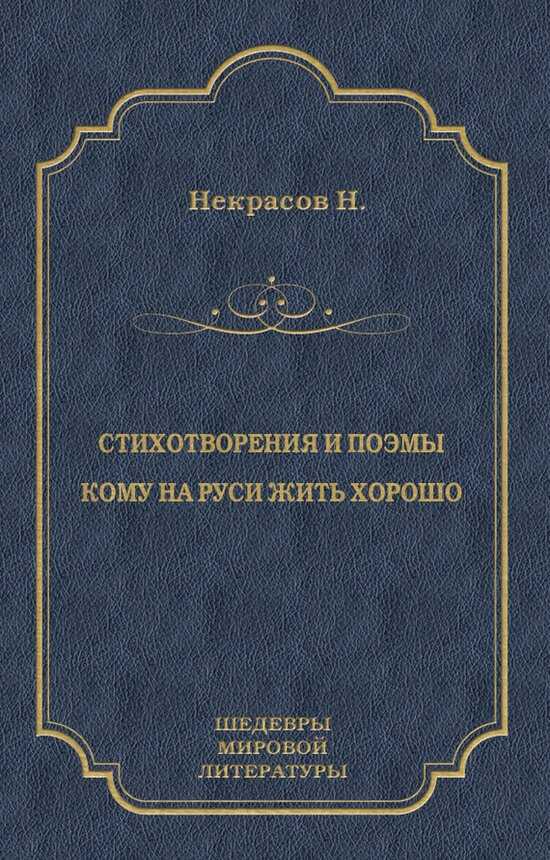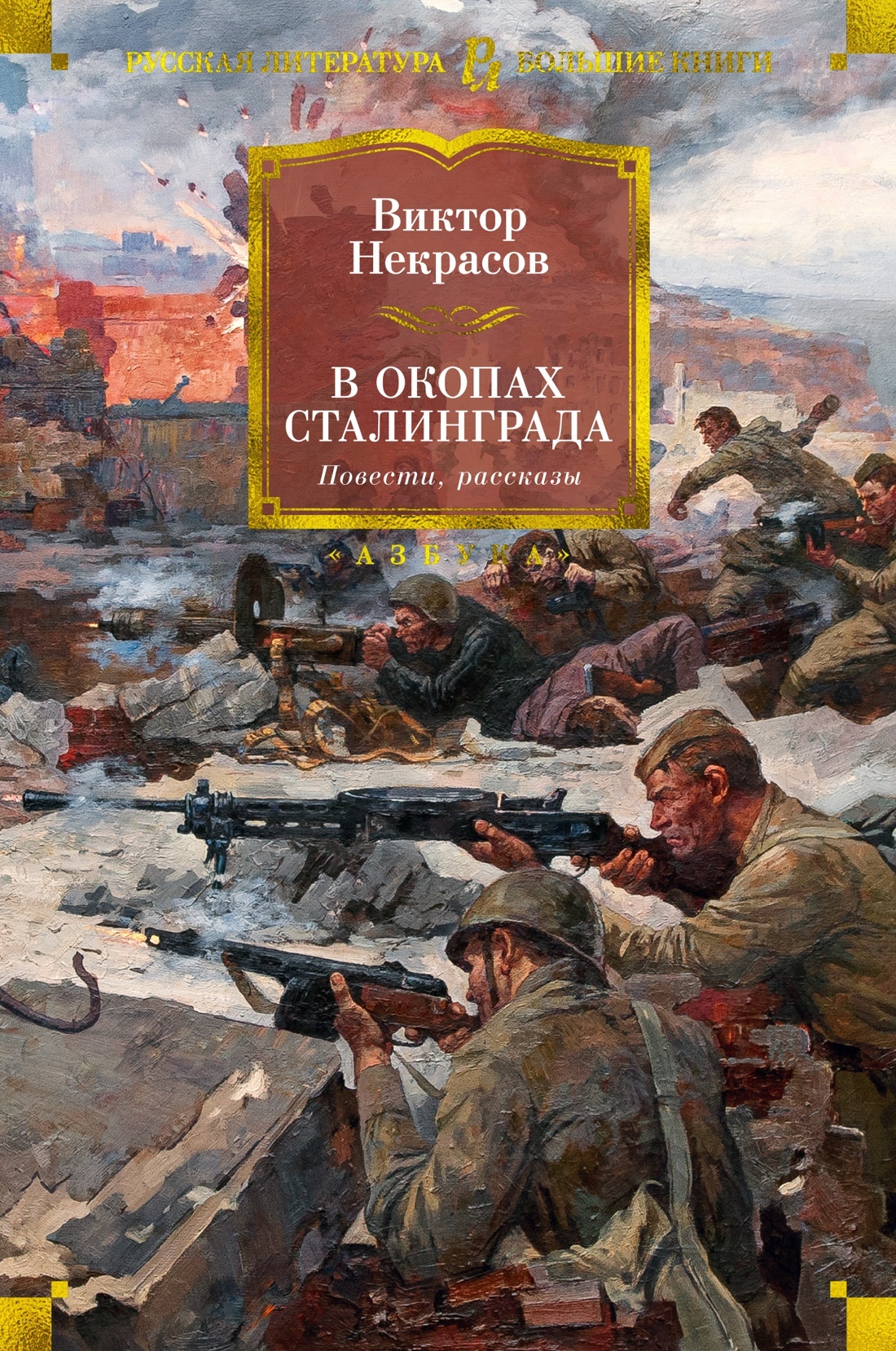Ознакомительная версия. Доступно 8 страниц из 38
еще кусочек пемзы, о который каллиграф временами острит кончик пера.
И вот, прилежно занимаясь всем этим, Афанасий время от времени отвлекался от работы, чтобы записать на полях нечто такое, что не хотел забыть: вот сумма денег, что он задолжал соседу… вот список покупок, необходимых в ближайшее время… а вот напоминание о скорых именинах тестя.
Разумеется, потом, доводя экземпляр до товарного вида, Афанасий избавился бы от своих пометок: покупателю завершенного труда его памятки были совершенно ни к чему, клиент хотел видеть перед собой полноценную книгу о царе Дариане, а не куцый дневник ее переписчика.
Но, как и в случае с миниатюрами, что-то помешало ему это сделать.
Так, день за днем, неделю за неделей и месяц за месяцем я вчитывался в греческий минускул, разбирая строку за строкой и страницу за страницей.
И мало-помалу мне стало казаться, что в том глубоком, глухом, непроглядном мраке времени, что отделяет нас друг от друга, появляется какое-то слабое, едва различимое свечение: это жизнь Афанасия Патрина начинала мерцать, как мерцает на дне глубокого колодца золотая монета; мне стало казаться, что она хоть и потаенно, хоть и едва угадываемо, а все же открывается моему взору; что она проступает подобно тому, как, поначалу совершенно невидимые в непроглядной ночи, очертания окружающих предметов все же слабо обрисовываются в жалком освещении нескольких звезд, – по мере того как глаза привыкают к темноте.
Глава 2
1
Почти всегда надежно уловленное серебряными сетями бесчисленных созвездий, а в эту ночь неожиданно непроглядно-черное из-за нахлынувших с моря туч, небо над царственным городом Константинополем только начинало мутиться: словно в чашку чернил мало-помалу подливали молока.
Афанасий Патрин вздрогнул и открыл глаза.
Масляный светильник успокоительно помаргивал, сея робкое желтоватое сияние и разрежая темноту до полумрака.
Разбудивший его обрывок сна быстро истаивал, он уже и вспомнить не мог, что это было.
Ах нет, это был змей, вот что. К добру ли?
Он зевнул, перекрестился и вдруг вспомнил байку, что недавно рассказывал отец Паисий. Афанасий подрядился сделать ему список Псалтыри. Дело дорогое и неспешное, с кондачка не решается, и, пока они его обсуждали и рядились, отец Паисий, заговорив, к слову, о колдунах, умеющих напускать на людей всякого рода наваждения, поведал, свидетелем какого случая стал недавно.
По его словам, царь Андроник приблизил к себе некоего Сикидита. Этот шаг, несомненно, таил опасность для самого царя, ибо сей Сикидит явно человек нечистый. Однако царям не указывают, а уж Андронику тем паче, только сунься: если лишние глаза есть, тогда, конечно, можно рискнуть, а если всего два, то лучше воздержаться.
Так вот, то, что сей Сикидит владеет волшбой и явно не обходится без помощи лукавого и его гадких демонов, бесспорно, подтверждается случаем, о котором идет речь.
Они небольшой компанией стояли на ступенях дворца и смотрели на море, а как раз близ берега проходила лодка, груженная глиняными блюдами и чашками. Вдруг Сикидит и говорит: а вот какую, мол, дадите награду, если я сейчас сделаю так, чтобы лодочник сошел с ума, бросил греблю и перебил вдребезги свою утварь? Все посмеялись: дескать, хорошее ты дело задумал, Сикидит, да вряд ли получишь за него хотя бы обол. Ладно, отвечает, не хотите – не надо, я и даром могу. И что же вы думаете? Нахмурился, брови свел, принялся сверлить лодочника черным взглядом – и через минуту хозяин лодки и впрямь вскочил со скамьи, выхватил весло из уключины и принялся со всей дури колошматить свои горшки, пока не обратил всю посуду в прах.
Стоявшие сверху, и отец Паисий с ними, просто покатывались со смеху, лодочник же, придя в себя, горько зарыдал и стал в отчаянии рвать бороду.
Когда потом у него спросили, зачем он причинил себе такой ущерб, несчастный с печалью рассказывал, что увидел страшного, кровавого цвета и с огненным гребнем змея, который, растянувшись над его чашами и блюдами, пристально устремлял на него неумолимые драконьи зраки, явно собираясь немедленно пожрать; и что этот змей не прежде перестал извиваться, а как лишь когда уничтожены были все горшки и плошки. А потом вдруг исчез из виду – прямо будто вылетел из глаз…
Афанасий Патрин перекрестился, пробормотал несколько слов молитвы, затем осторожно сел, взглянув на жену. Феодора крепко спала, приоткрыв рот и глубоко дыша. Справа от нее стояла колыбель-зыбка. Поднявшись на ноги, он поднес светильник и некоторое время с удовольствием смотрел. Маленький Алексей тоже безмятежно спал. С вечера мальчик капризничал, плакал, уже боялись, как бы дело не кончилось лихорадкой. Но потом все же стал задремывать, а Афанасий долго еще читал ему времена. Ну вот, спокойно почивает, слава Богу, обошлось.
Скоро он оделся и вышел из дома.
Над городом гудел сырой ветер, шумели деревья, подчас невесть откуда падали редкие капли дождя. Улица была темна, в мути рассвета очертания окружающего едва проглядывали. Он миновал четыре дома, прошел мимо крошечного поля. Куцее пространство спелой пшеницы за невысокой каменной оградой волновалось и поскрипывало, и он еще подумал, как бы старому Ахиллу после этакой ночки не пришлось собирать свое зерно прямо с земли.
В церкви святого Космы теплилось несколько светильников, звучал высокий голос священника, басил дьякон, голоса певчих звучали робко, как всегда на утрене, когда кажется, что они опасаются, как бы ненароком не разбудить вселенную.
Машинально проговаривая за отцом Михаилом слова службы, Афанасий чувствовал обычное успокоение: именно так, не меняясь ни единым слогом, ни единым гласом, они повторялись вот уже тридцать с лишним лет – с тех самых пор, как впервые достигли слуха. День за днем он испытывал веселую радость, с облегчением обнаруживая, что по крайней мере эта часть мира осталась прежней, незыблемой; что в любой миг можно припасть к ней и убедиться, что ничто не изменилось, ничто не пропало. Это вселяло надежду, что хотя бы здесь все пребудет столь же постоянным – и завтра, и через три дня, и через десять лет: и маленький Алексей, когда чуть подрастет, услышит то же самое, и его дети станут внимать тем же голосам, и так будет всегда, ибо эта стрела, расставшись однажды с тетивой, стремительно и неуклонно летит в бесконечность.
Когда он шел назад, уже рассвело. Небо не казалось таким мрачным. Тучи еще ползли, море глухо ревело, черные волны бросались на берег, будто злые собаки, рассчитывая, вероятно, если не расколоть, то хотя бы до смерти
Ознакомительная версия. Доступно 8 страниц из 38