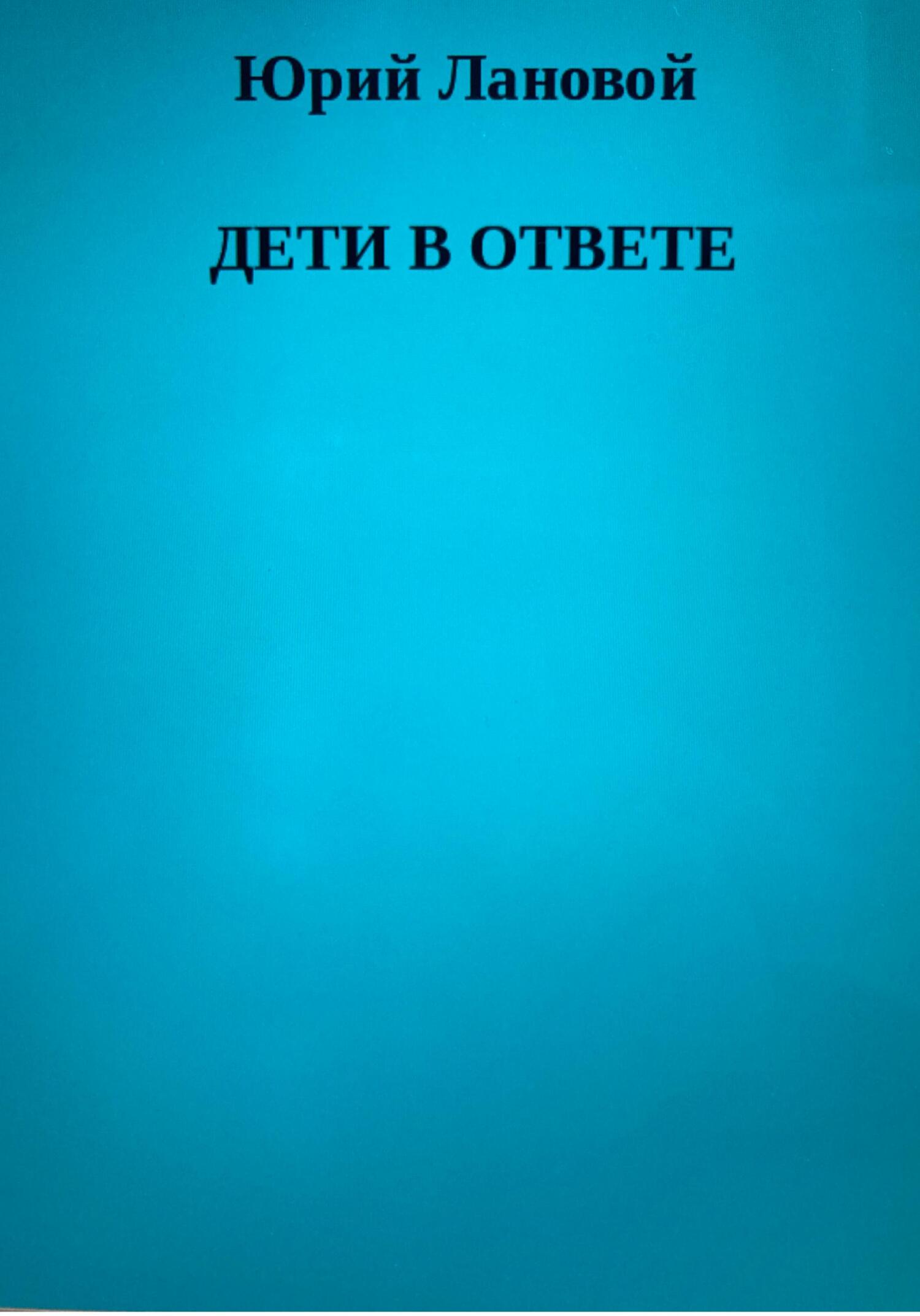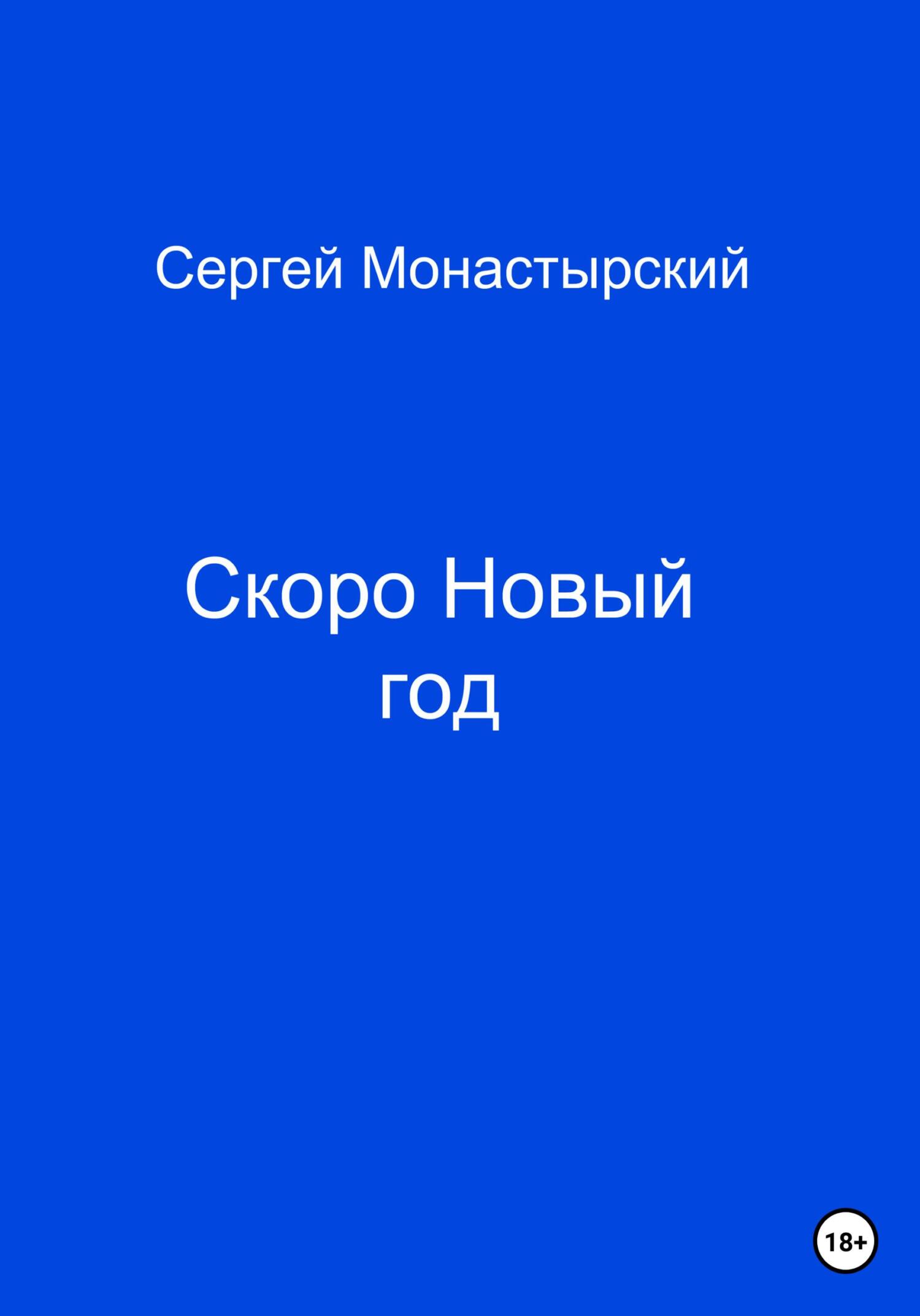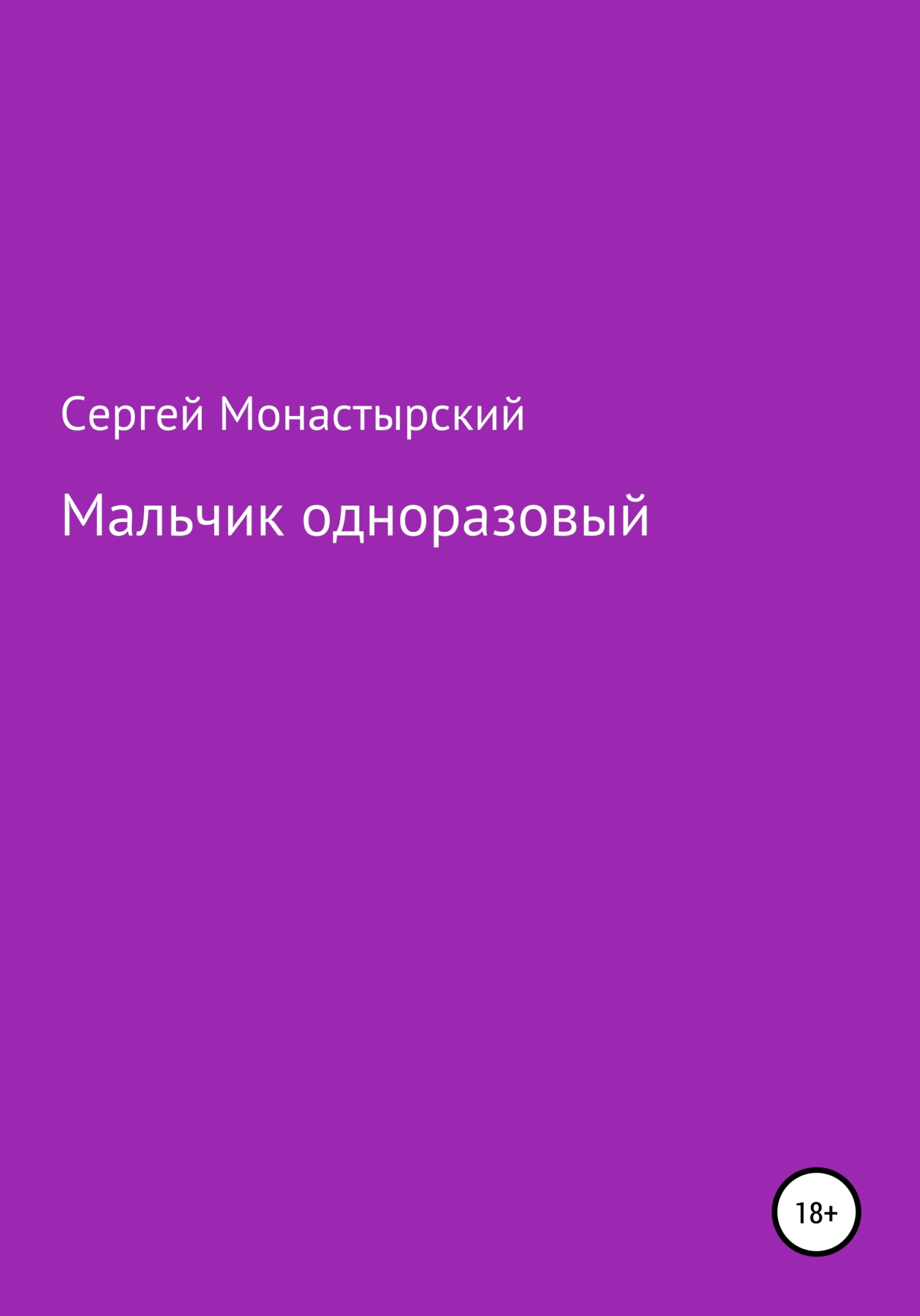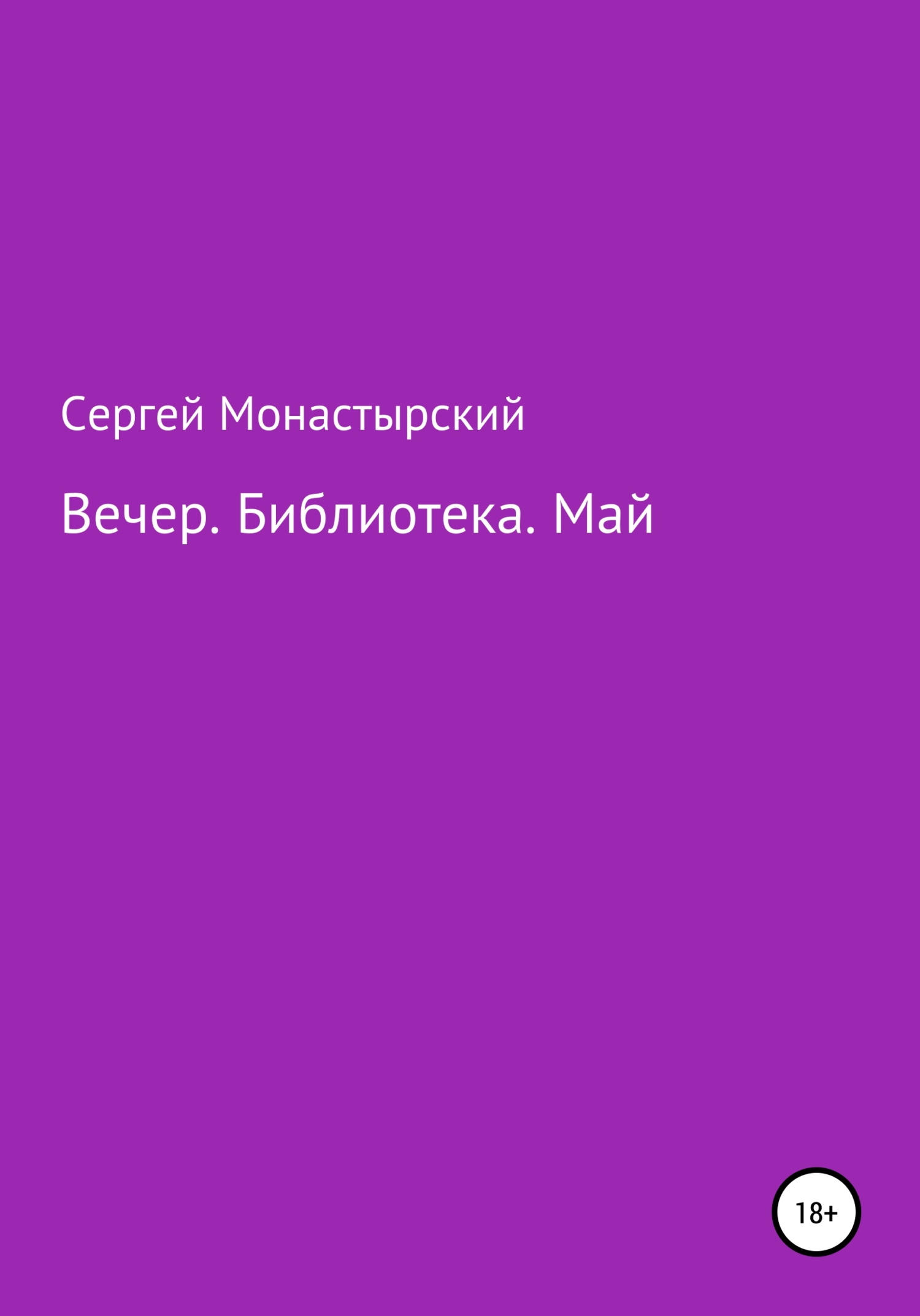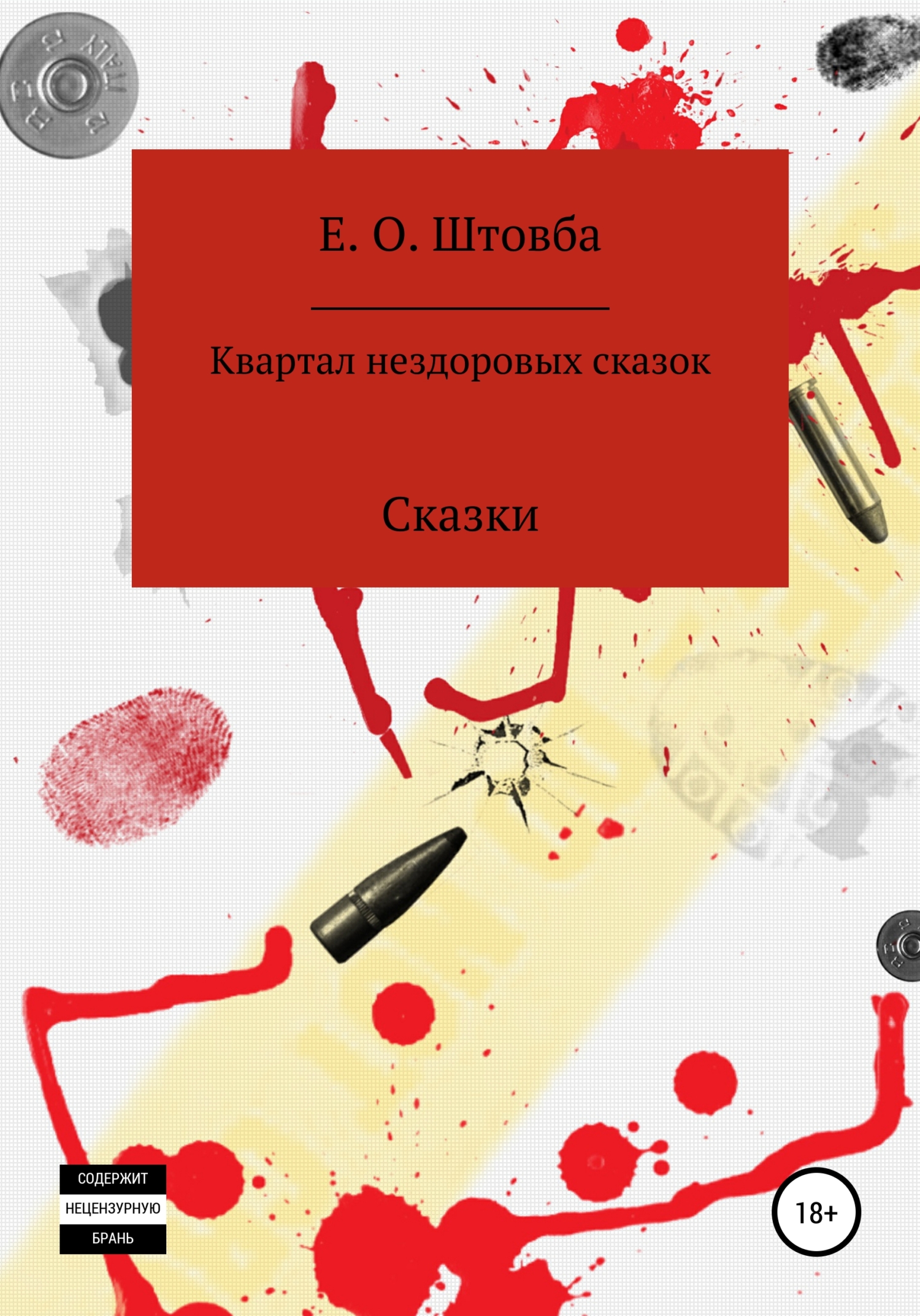а она, Наташа, хорошая. И зачем ей, такой хорошей, воспитанной, играть с плохими.
Маленькая плачущая девочка возвращается в комнаты, где у нее много игрушек, где живут покорные папа и мама, где она — самая главная.
И напрасно сосед пытается грустной шуткой образумить родителей:
— Видите, ей уже трудно с людьми…
ЗА ШТАКЕТНЫМ ЗАБОРОМ
Вот как это было.
Девочка лет двенадцати с трудом передвигалась по дорожке загородного сада медицинского учреждения. Она была на костылях. За ней шла женщина в белом халате, — должно быть, врач или медицинская сестра.
И вдруг девочка споткнулась и упала.
Женщина в белом халате наклонилась над нею, что-то сказала, но не сделала даже попытки помочь ребенку подняться. Даже руки не подала.
Эту сцену наблюдали сквозь прорези штакетного забора проходившие мимо дачники и отдыхающие из домов отдыха. И, естественно, возмутились. И, конечно, стали громко выговаривать бездушной, бессердечной женщине в белом халате за то, что она не помогает девочке встать.
Один, наиболее решительный и громче других выражавший свое возмущение, открыл калитку и прошел в сад. К этому времени девочка, опираясь на костыли, уже успела подняться сама. Удивительное дело, на ее лице светилась радость.
Что же узнал этот человек, проникший столь решительно в сад?
Девочка после перенесенной ею тяжелой болезни долгое время не ходила. И мешало ей главным образом то, что она потеряла веру в свою способность стоять на собственных ногах, передвигаться хотя бы с помощью костылей.
Важнейшей задачей врачей в этот период безусловного выздоровления была уже не хирургия, вмешательство которой увенчалось блестящим успехом, а психотерапия.
«Ну, иди же! Всё в порядке», — говорили девочке.
«Не могу», — отвечала она со стоном.
И вот она наконец пошла. Тяжело, медленно переступая ногами, изо всех сил опираясь на костыли, шла. Сама! Без посторонней помощи. Сперва от кровати до двери. Затем — за дверь. Затем — за порог дома, на тропинки большого сада.
Всё больше веры и решимости накапливалось у этой исстрадавшейся девочки.
Но вот ей уже и костыли были не нужны. Надо было заставить ее отказаться от костылей, — пусть на первое время она и станет передвигаться хуже, медленнее. Но она должна пойти без них. А она не могла от них оторваться. Повторялось то же, что было сразу после выздоровления, когда она боялась встать с постели.
Решимость приходит не вдруг, она накапливается постепенно, созревает иногда очень медленно. Но проявиться может в одно мгновенье.
Вот это и случилось, когда девочка упала.
Мать девочки, навестившая ее в этот воскресный день, — не врач и не медицинская сестра, как мы предполагали, — наклонилась к ней, конечно, с тем, чтобы помочь. И услышала:
— Не надо… Я сама…
И мать сразу же отступила в сторону и сказала:
— Хорошо!.. Конечно… Ты сможешь…
И девочка встала сама.
Так, как будто бы просто, был преодолен последний барьер перед полным выздоровлением.
Вот при этом радостном, чудесном событии и присутствовали все, стоявшие по ту сторону штакетного забора. И не понимали, возмущались черствостью взрослого человека, не оказавшего помощи больному ребенку.
Именно ее — великую радость преодоления, казалось бы, непреодолимого — увидел человек, проникший в сад. И он, вероятно, никогда не забудет счастливого, торжествующего лица девочки.
Настоящая помощь иногда заключается в том, чтобы не помочь.
В жизни есть много таких «штакетных заборов», через которые как будто всё видно, а на самом деле не видно самого главного.
Попробуем столкнуть две истины. Первая заключается в том, что взрослый обязан прийти на помощь ребенку. Вторая — в том, что воля, настойчивость воспитываются только на преодолении трудностей. Противоречат ли эти две истины одна другой? Конечно, нет. Но только в том случае, если ни одну из них мы не превращаем в нечто абсолютное, неизменное, годное во всех случаях жизни.
В одном школьнике трудная задача вызывает хороший азарт, в другом — нерешительность. Он сразу же спешит к отцу, к матери, к учителю с жалобой:
— Не получается…
Его к этому приучили. Ему помогали даже тогда, когда он мог бы, приложив некоторые усилия, справиться сам.
Нередко вот так, из-за бездумной доброты и снисходительности взрослых ребенок лишен радости собственных усилий и собственных достижений. Он не в состоянии отбросить костыль, хотя и не нуждается в нем.
ЧЬЯ ДВОЙКА?
Николай Николаевич, учитель, аккуратно уложив покупки в портфель, направился к выходу из магазина. Впереди шел высокий, стройный, 4хорошо одетый юноша, решительном рывком распахнувший дверь. Учитель, полагая, что его вежливо пропускают вперед, прошел первым.
— Спасибо!..
— Я вам не швейцар, — услышал он в ответ.
Как мог учитель не узнать голоса своего ученика?
— О, это вы, Гусев, — учитель приподнял свою потрепанную шляпу, которую носил и в летнюю жару и в зимний холод. — Здравствуйте, здравствуйте!..
— Простите, Николай Николаевич, я вас не узнал…
Юноша действительно был несколько сконфужен.
— Ничего, ничего, — успокоил его учитель. — Вежливость, должно быть, уместна только со знакомыми… Будьте здоровы!
И ушел.
Десятиклассник пожал плечами и мысленно произнес привычное магическое: «Подумаешь!»
Так и разошлись.
Кстати, Борю Гусева дома называют принцем. Так, в шутку. С некоторой примесью иронии, правда, но очень легкой и столь добродушной, что не всегда ее заметишь:
— Принц сегодня опять чем-то недоволен…
— Принц опять получил двойку…
— Принцу опять нужны деньги на карманные расходы, а давно ли брал?…
— Принц опять нахамил…
И вот о двойке.
В конце второй четверти он не ответил ни на один вопрос учительницы литературы.
— Вы учили урок? — спросила она.
— Нет…
— Почему?
Гусев пожал плечами:
— Это трудно объяснить.
Он не мог, не хотел показать товарищам, что двойка его беспокоит. Конечно, получить двойку неприятно. Мать станет долго и скучно его отчитывать. Учиться, мол, его обязанность. Живет он, мол, на всем готовом, о нем заботятся. «Хватит! — скажет он. — Я могу обойтись и без твоего ужина».
По опыту он знал, что мать сразу сдастся.
У Бори есть время представить себе всё это, так как и учительница, Зинаида Павловна, задумалась. Она смотрела куда-то вдаль, поверх головы ученика. А какая там даль? Обыкновенное окно, оклеенное на зиму газетной бумагой, за ним — крыши, на крышах — снег.
Зинаиде Павловне не хотелось ставить двойку, особенно сейчас, в конце четверти. У Гусева эта двойка не единственная, и придется выводить за четверть неудовлетворительную оценку. Нехорошо! В школе дело поставлено так, что заведующий учебной частью изысканно вежливо, но не без некоторого административного нажима скажет: «Как это у вас, Зинаида