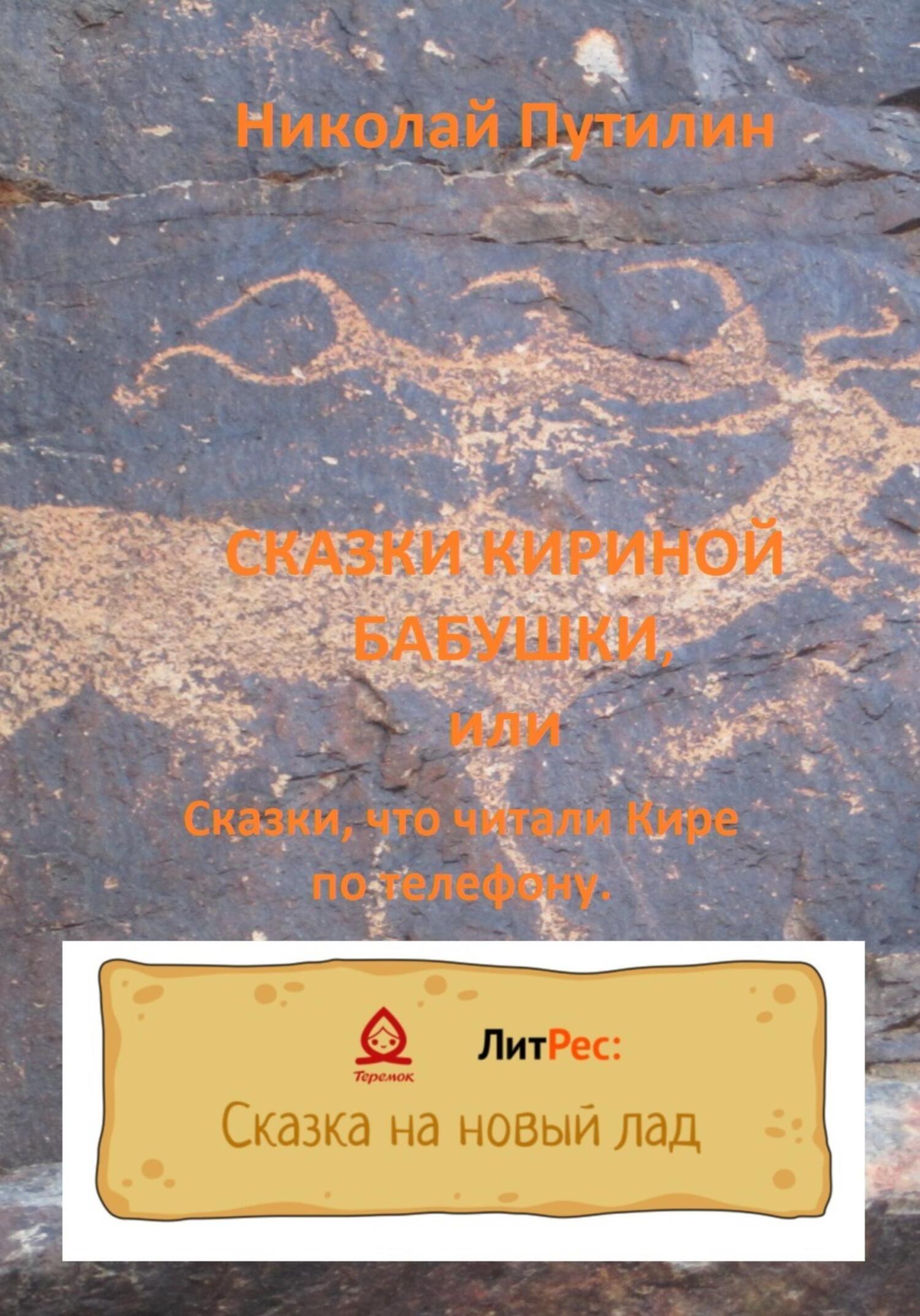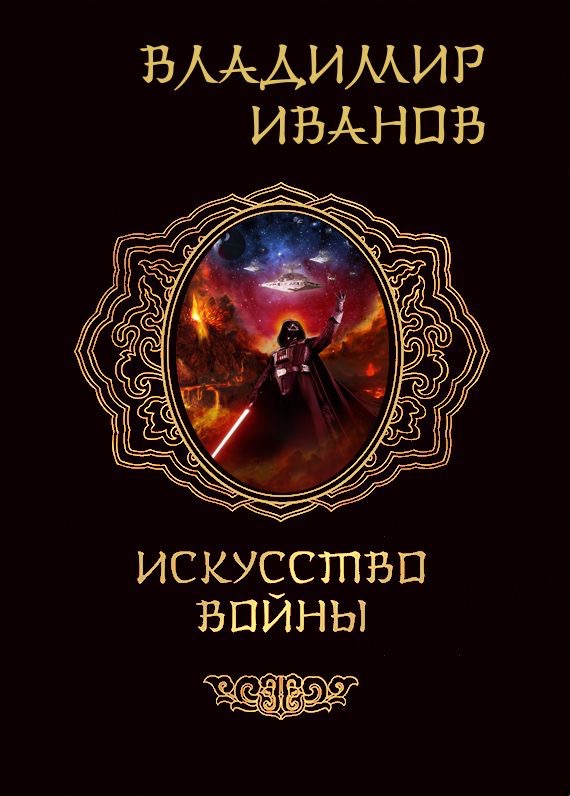подолгу беседовали с ним. Меня интересовали многочисленные детали военного времени. Отвечал он обстоятельно – между предложениями длинные паузы. Это были ответы из памяти жизни!
Таких людей, хозяев своей земли, как Петер и Фогель, рождала генетическая память латышского крестьянина, испокон веков работавшего на своей земле. Таких людей рождал ежедневный труд во благо жизни, из поколения в поколение живших в согласии с собой и окружающим миром. Вершиной этого мира зачастую был ближайший городок и, как мне рассказывал хозяин хутора «Гайли», не каждому дано было в своей жизни доехать до столицы
Риги.
Земля нас кормит! Пока она есть и есть рабочие руки, крестьянин будет сыт, а тело будет здоровым! Эти его слова звучали как напутствие потомкам! Увы! Не случилось! Его сыновья врачи. Выйдя на пенсию, переселились из Риги в отчий дом и сейчас развивают там сельский туризм. Крестьяне Латвии не выдерживают конкуренции с оптовыми производителями и поставщиками и уходят с рынка, а хутора превращают в гостевые дома, предлагая, и не дёшево, единственный оставшийся конкурентно способный товар – экологию!
Прошло не так уж много лет, а последнее поколение истых крестьян и их потомки уходят в историю…
РАССКАЗЫВАЕТ МАМА
Вот уж воистину голод – не тётка…
«Гробиню мы обошли со стороны моря. Ночью шли по шоссе, днём перелесками подальше от домов. Бабушка умело «прикутывала» тебя к моей спине, а сама несла наши самодельные рюкзаки, в которых были сухари и рыбные консервы. Вечерами мы видели огни близлежащих хуторов, но обходили их стороной – слишком близко немцы. «От греха подальше», – говорила бабушка.
Дорога на Айзпуте была пустынной, и лишь редкие подводы проезжали по ней. По обочинам дороги росли яблони, и осенние яблоки разнообразили наш рацион. Воду, которую мы взяли с собой, берегли для тебя. Бабушка делала толкушку из сухарей и яблок, заворачивала её в марлечку. Это была твоя соска и твои витамины. «Вот уж воистину голод – не тётка», – улыбалась бабушка, глядя на то, как ты, причмокивая, быстро «осиливал» очередную порцию размоченных сухарей с яблочными «скобликами», которые бабушка соскоблила ложкой с яблока».
Помню, после войны в доме у плиты всегда стояли два льняных мешочка. В одном были белые сухари, во втором – чёрные и когда я спрашивал у бабушки, а зачем они, бабушка начинала плакать и отвечала сквозь слёзы: «На случай войны…».
Здесь ты впервые попробовал молоко и долго привыкал к нему.
«Первую ночь мы спали, вернее, дремали по очереди в лесу. Из веток с листьями смастерили, как говорила бабушка, лежанку. Тебя укладывали между нами, накрывались бабушкиной овчинной шубой. Никогда не могла бы подумать, что ночью так страшно в лесу. Днём, пока тебя несли, ты почти всё время спал, а ночью начинал капризничать.
На второй день к вечеру нам повезло, и мы вышли к охотничьему хозяйству. На поляне стояло несколько смётанных на шестах стогов сена и сделаные из жердей кормушки, которые предназначались для зимней подкормки лесных обитателей.
Мы наломали еловых веток, подстелили их на землю в один из таких домиков, сверху набросали сено и там заночевали. Спали в эту ночь долго – чувствовалась усталость. К утру становилось прохладно, и тебя закутывали в бабушкину шубу, благодаря которой ты и выживал.
Проснулись мы от ржанья лошади. Я выглянула из стога и вижу – на поляне стоит пара лошадей и мужчина сгружает с телеги сено. Я лихорадочно пытаюсь понять, что делать и как вести себя дальше. Кто он? Друг или враг? Ничего путного в голову не приходит! И в этот момент ты громко заплакал. Беру тебя на руки, пытаюсь успокоить, но куда там! Ты начинаешь плакать ещё громче!
Мужчина идёт в нашу сторону. Понимаю, что мы обнаружены. У меня наган. Мужчина подошёл. Удивлённо смотрит на нас и что-то говорит, улыбаясь. По интонации понимаю, что задаёт вопросы. Это был Фогель! Так мы оказались на хуторе».
Я помню запах этой шубы. Она всегда пахла бабушкой. После войны, когда мы уже жили в Кулдиге, бабушка зимой накрывала меня ею поверх одеяла. Зимы тогда были холодные. И в семидесятые помню эту шубу в нашем доме. Отслужив свой век, она продолжала быть полезной в хозяйстве: остатки её лежали половиком в комнате.
Когда я начинал расспрашивать бабушку о подробностях и каких-то деталях этой дороги, она рассказывала неохотно, часто крестилась: «Не дай тебе Господь!», уходила на свою лежанку в кухню и плакала. Слышал, как она говорила: «Все глаза я с вами выплакала, а они всё плачут».
Фогель был из балтийских немцев. На своей подводе он привёз нас к себе на хутор «Чаняс» Снепельского уезда. У нас не было выбора. Я переживала. А если он нас привезёт и сдаст немцам? Мама успокаивала меня. Посмотри на его руки! Крестьянин! Всё будет хорошо! Так и случилось.
Через несколько часов мы были уже на месте. На этом хуторе наша семья и прожила до окончания войны. Не случись так, трудно предположить, что стало бы с нами. Хутор стоял в глубине леса в десяти километрах от главной дороги. Кирпичный дом в полтора этажа, несколько хозяйственных построек, большой сад, пруд.
Хозяйство у Фогеля было большое – коровы, овцы, гуси, куры, кролики. С первых же дней хозяин определил круг наших обязанностей, и мы стали работать. Всем этим хозяйством управлял сам Фогель со своей женой Анной.
На хуторе ты впервые попробовал молоко и долго привыкал к нему. Когда ты ещё только ползал и хотел кушать, показывал рукой на ведра с молоком, которые всегда стояли на кухне в ожидании своей очереди на переработку через сепаратор».
Я с детства помнил этот специфический молочный запах деревенской кухни вперемешку с другими ароматами готовящейся еды.
После первых налётов немецкой авиации получили команду выйти в море.
На хуторе уже находился Ерохин Николай Васильевич, который проходил службу боцманом на одной из подводных лодок, стоявших перед войной на ремонте в Либаве и вот его рассказ.
«Призвали меня на действительную службу на флот из города Балашов Саратовской области. По окончании школы подводников в Кронштадте проходил дальнейшую службу в дивизионе подводных лодок. После срочной службы остался на сверхсрочную. Служил на подводных лодках типа «Щука» старшиной боцманской команды. В 1940 году дивизион подводных лодок был направлен в эстонский город Палдиски, где согласно договору между СССР и Эстонией, была создана военно-морская база. Службу несли