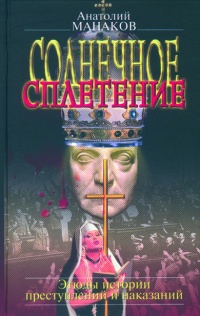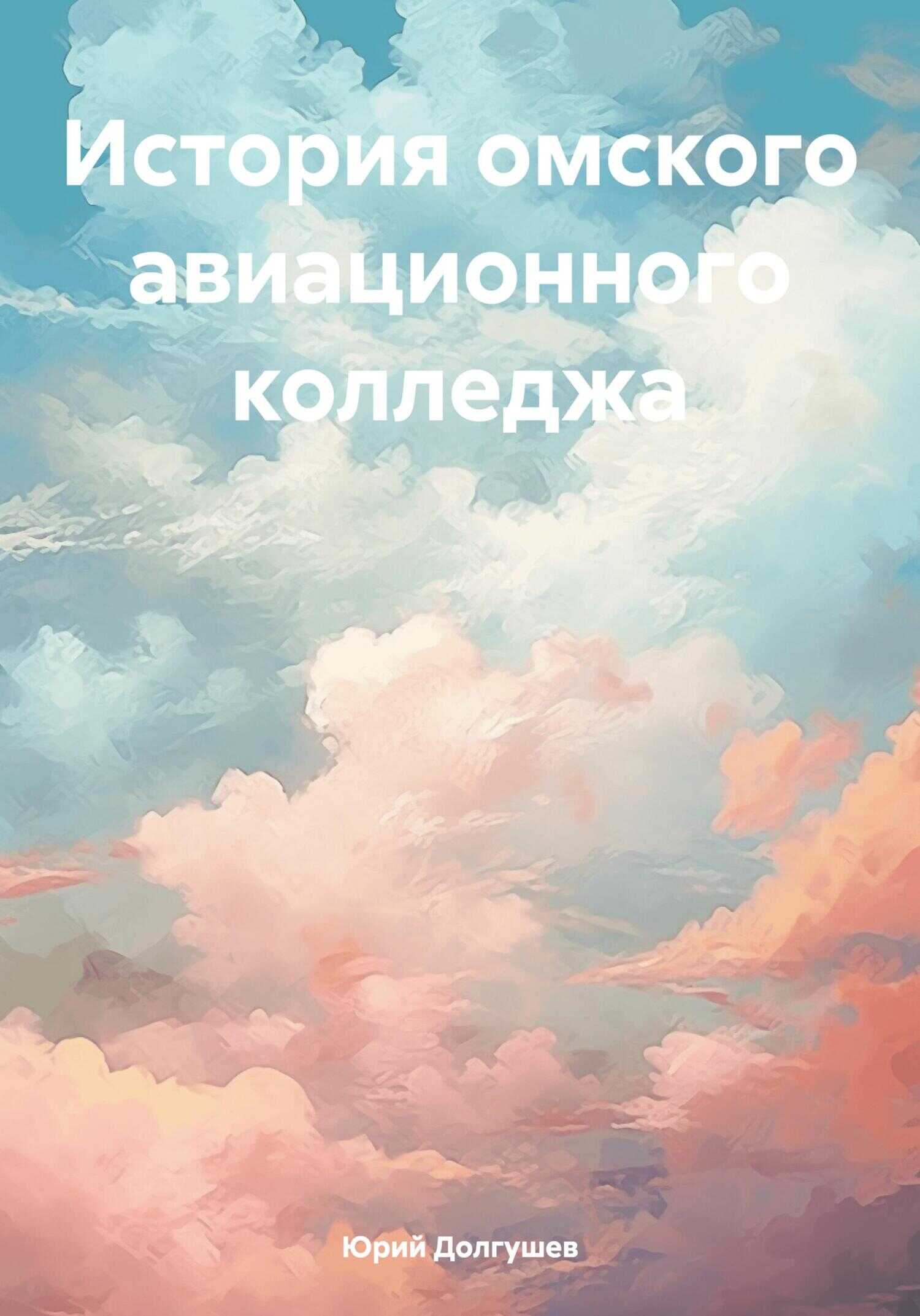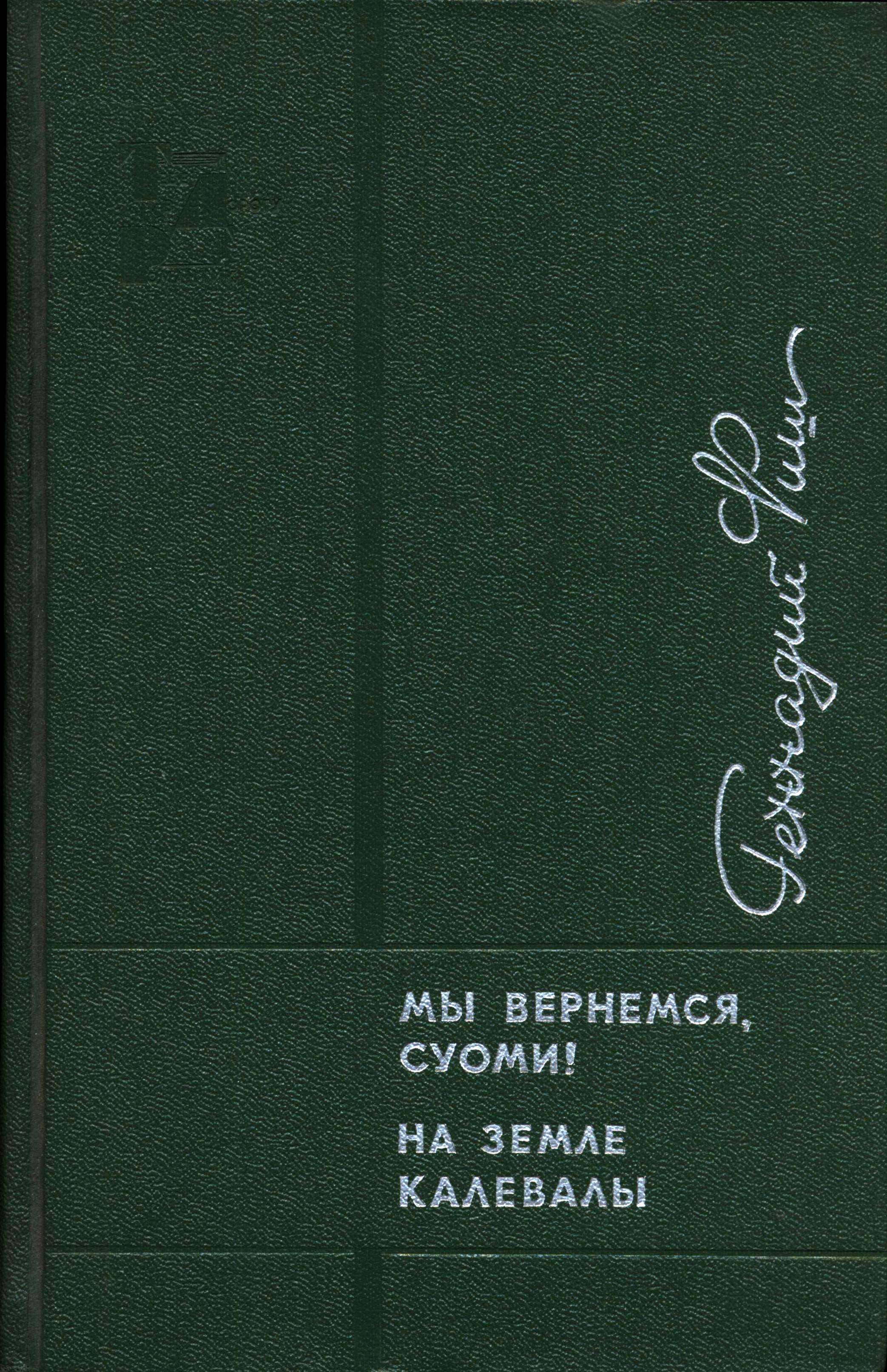больше, хватал куски, давясь, глотал, видно, проснулся страх, вошедший за века скитаний и в кровь Осипа, как сына отовсюду гонимого неуживчивого народа, страх того, что завтра, может случиться так, что и есть-то будет нечего, а помирать ой как не время! В этой неслыханно богатой и огромной стране, которую наши вожди подмяли-таки под себя, и братья по крови почти на всех партийных и государственных ключевых и узловых должностях, мы, – бывало, радовался Гомельский, – переучим этих сермяжных мужиков в передовых рабочих, и они принесут нам баснословные прибыли. А там уж, как говаривал их недоумок Ульянов-Ленин – и мировой пожар раскочегарим, теми же мозолистыми руками. «За каждую каплю святой крови, пролитую за века наших притеснений, – мстительно раззадоривал себя Осип, – гонители заплатят тоннами своей! Да воистину будет так!».
Естественно, что подобными мыслями осторожный и трусливый Гомельский ни с кем не делился, но зато как они согревали его издёрганную постоянным притворством душу!
Вот только за эти мрачные дни и неслыханно жуткие ночи блуждания по промороженной тайге осиповский задор заметно поиссяк. В осунувшееся небритое лицо Гомельского дохнула безжалостная смерть, та самая старуха, что не разбирает, кто перед ней: представитель ли народа, назначившего себя на роль избранного, либо какой-то смердящий гой. Она равнодушно косит своей никогда не тупящейся косой кого ей заблагорассудится. И вот этого-то и боялся панически Осип, ведь столько радужных надежд на будущее лелеял он в своей тщеславной душе! Как мечтал он дожить до того сладкого момента, когда наконец-то поверженный мир падёт к ногам его великого народа. А теперь всё это может рухнуть, как вон та лавина, сошедшая накануне в логу за рекой и срезавшая как бритвой у изножья горы редкие молоденькие пихты и стройные березки.
– Товарищ комиссар, чё нос-то повесил? – Кишка только что тайком проглотил, почти не прожёвывая, кусок мягкого розоватого сала и сухую галету, чуток опьянел от еды, и его тянуло потрепать языком. Тем паче, что в кармашке, пришитом по случаю на боку, изнутри гимнастёрки, грелся еще один добрый шмат припрятанного сала. Ну, это – на потом. – Я кумекаю так: счас отыщем место, где река промёрзла, чтоб пройти на тую сторону. А там, по пологому бережку, – энтот-то, вишь, крут да ишо и скалы прям в реку лезут, – и уйдём вниз. Река, поди ж ты, бежит к Талову, а куда ж ей ишо! Вот она-то нас и выведет из энтих пропастин. Ты мне опосля, Осип Михалыч, ишо и спасибо скажешь, да в ножки поклонишься за то, что я тебе жизню твою драгоценную спас!
Однако Гомельский с таким нескрываемым презрением окатил взглядом с ног до головы явно перебравшего с болтовнёй Грушакова, что тот мгновенно прикусил язык и, пробормотав: ладно, ладно, мол, шутю я, отошёл к возившейся с вещмешком Феньке – Стрелку.
– Чё, ты там, голубь, плёл комиссару? – Фенька подняла красивую голову свою с выбивающимся из-под будёновки русым завитком и весело продолжила: – Каки таки реки бегут в Талов? Кабы так, давно бы тискались на тёплых полатях у печи, нешто бы стыли туточки? Я девчонкой с покойным тятькой всю Синюху облазила, с другой от городу стороны. Речек – тьма, и хучь бы одна свернула в твой Талов!
– Дак я ить думал успокоить комиссара, – примирительно сказал Кишка. – А то он больно смурной, да какой-то ишо не в себе. Не натворил бы чего. Ему наши природы непривычны, а ить он схотел, я так чую, в белу косточку выбиться. Вот здесь и побелеет, как под сорок мороза саданёт!
– Да ты, небось, и своё-то хозяйство всё нонче поморозил! Отколупнулось поди уж да отпало за ненадобностью! Коль так, не подпущу на выстрел! – грудной голос командирши рассыпался на заливистые колокольцы.
Понять смысла их разговора другие не могли – далековато отстояли они от остальных чоновцев, однако ж Фенькин смех был громким и заразительным. Бергалы переглянулись: тешится, баба, дурит, видать, мужика хочет, аж невмоготу. А чё, можно бы и здеся её оприходовать, шинельки в кучу, чтоб зад не примёрз, и становись, мужики, в сладку очередь! Ан нет, с Никифором шутковать не с руки – враз прибьёт! Да и жидок ишо энтот, так и буровит всех зенками своими чернущими, а жрёт-то за троих, не гляди чё худ, яко жердь поскотная. Ох, не любы ж мы ему, братцы, хошь и скрывает, собака пархатая, толкёт в себе! В пролубь бы его тишком да с концами, дак опосля не оправдашься! Бергалы разочарованно вздохнули и разошлись по лагерю – кто дров подкинуть в костёр, кто поправить сбрую, объедающей тальник, лошади.
Серебристый и гибкий, с тёмными полосами поперёк верхнего плавника, хариус стоял несносимо в холодном подлёдном потоке и ловко выхватывал ртом с поверхности воды всякую съедобную мелочь: личинок, дохлых осенних мошек и комаров, клочки зелёного ила и мха. На этом перепаде воздушная подушка между коркой льда и стремниной была изрядная – лёд не успевал нарасти, как его сбивала своенравная волна, шлифуя тыльную часть ледяного панциря и оставляя ему возможность утолщаться лишь вверх, по внешней стороне. Солнечные лучи косо били в прозрачный, схожий с линзой, лёд, и, преломляясь, вертикально прошивали слой студёной воды до каменистого, мозаичного дна.
Вдруг радужные круглые глаза хариуса испуганно отметили движение огромных размытых теней выше по течению, над стылыми глыбами порожистого льда. Пять продолговатых, слитых в единую цепь существ, проходя, на какой-то миг закрывали солнце, темнел и тут же светлел искристый лёд, а вот шестая тень неожиданно разломилась пополам, удлинённая её задняя часть вскинулась над порогом. А меньший кусок этой тени рухнул камнем вниз и, проломив обманчивый ледяной панцирь, мгновенно был подхвачен стремниной и с силой затолкан под лёд. За секунду до этого хариус крутнулся, показав молочное своё брюхо, и молнией унёсся вниз по реке, да с такой скоростью, с какой гонцы разносят по округе радостное известие о скором прибытии в их оголодавшие веси хлебного сытного обоза.
– Братцы, еврей утоп!
– Коня, коня лови! Потопчет ить нас всех!
– А харч с им был?
– Да кто ж его знает! Он теперь сам харч налимам да сомам!
– Не мелите, пустобрёхи, чё ни попадя. Человек ить погиб да ишо и комиссар наш геройский!
– Знамо дело, Никифор, он хошь и еврей, а всё ж не мошка какая. Всё мы разумеем, энто нервное у нас.
– Чуток погодь, угомонимся. Пропал комиссар!
– Под лёд ить не полезешь, да и где ж там нашаришь теперь!