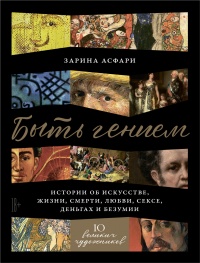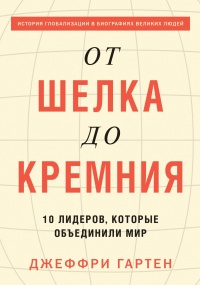начальством в министерстве внутренних дел сочли за лучшее держать родственников воинов-апачей в качестве заложников именно в Сан-Карлосе. Кто-то решил, что с таким козырем на руках будет проще договориться с Викторио.
Цезарю оставалось только радоваться, что его родня из племени скрылась вместе с Викторио. Да, сейчас они находились в бегах, но, по крайней мере, были избавлены от тех страданий, что испытывали остальные. Цезарь ужасно тосковал по очаровательному дуракавалянию Вызывающего Смех, да и племянника, Освобождающего, давно не видел. Юноше сейчас, скорее всего, уже исполнилось семнадцать.
Цезарь проехал вдоль вереницы фургонов, остановившись у пятою с конца. В нем ехали взрослая дочь Викторио, ею вторая жена Ветка Кукурузы, ее мать и несколько маленьких детей. Все они ужасно отощали и были одеты в лохмотья Ветер с дождем изорвали парусину фургона, и потому, чтобы хоть как-то согреться, несчастные сидели, прижавшись друг к другу.
Изо дня в день Цезарь пытался заговорить с ними, пуская в ход все свои знания испанского и наречия апачей, но женщины лишь смотрели сквозь него. На этот раз Ветка Кукурузы подняла взгляд на негра. Она сидела вместе с матерью, обхватив руками самого младшего сына Викторио, шестилетнего Истээ. Мальчика била крупная дрожь. Он буквально трясся в конвульсиях.
— Хисдлии, — промолвила Ветка Кукурузы. — Ему холодно. Каа ситии. Он болен.
Бабушка мальчика стянула с плеч обрывок одеяла и обернула его вокруг ребенка.
— Нохвич ’одиих, Шида ’а, — попросила она. — Помоги нам, Дядя.
Цезарь достал закрепленное за седлом армейское одеяло, о котором совсем забыл, и протянул его апачам. Сам он сел как можно ближе к пламени костра, силясь согреться и мечтая об одеяле. Тут к костру подлетел капитан Хукер с красным, как помидор, лицом.
— Кто это, сукины дети, казенное имущество индейцам раздает? — Капитан, потрясая одеялом Цезаря, орал так, что во все стороны летела слюна.
Цезарь застыл от ужаса.
— Они совсем замерзли, сэр, — пробормотал он.
— Ты у меня за это под суд пойдешь, сволочь. Тебя разжалуют и выкинут со службы к чертовой матери! Уж я-то об этом позабочусь!
* * *
Молодой солдатик открыл тяжелую дубовую дверь, и в камеру проник свет весеннего солнца. Сама камера располагалась в подвале глинобитного домика, служившего караулкой. В караулке имелась чугунная печка Сибли[113], но когда ее топили, тепло все равно практически не проникало вниз. Рафи принес Цезарю одеяла, исподнее, пару шерстяных рубашек и шинель: чернокожему заключенному приходилось спать на полу.
Узенькое оконце под потолком было зарешечено. Из мебели в камере имелось лишь ведро для отправления естественных нужд. Цезарь и еще трое заключенных были закованы в ножные кандалы.
Когда в камеру вошли Рафи с Мэтти и ее двумя детьми, часовой встал в дверях, внимательно следя за происходящим. Трехлетняя Элли Либерти кинулась к отцу, который подхватил ее на руки и крепко обнял. Продолжая прижимать девочку к себе, Цезарь встал на колени и обнял семилетнего Авраама.
— Мы всё посадили, — промолвила Мэтти. — И кукурузу, и тыкву, и бобы. Рафи пахал землю, а мы с Авраамом сеяли. Теперь Авраам воронье отгоняет. — Она запустила пальцы в курчавые волосы мужа. — Вон как ты оброс. Подстричься тебе пора.
— Вот ты и подстрижешь. Скоро у тебя появится такая возможность. — Цезарь не стал уточнять, что к сегодняшнему вечеру надобность в короткой стрижке отпадет.
— Отчего бы и не подстричь. Рафи говорит, что тебя сегодня отпустят.
— Отпустят, — согласился Цезарь и поднял глаза на друга: — Знаешь, старина, я даже рад, что меня выгоняют. Не хочу я в родных стрелять.
— Если мне удастся отыскать Викторио, я попробую убедить его сдаться, — пообещал Рафи.
— Власти довели его до края, — скептически хмыкнул Цезарь. — Не думаю, что он сложит оружие и склонит голову.
Они говорили, пока горнист не протрубил сигнал к построению.
— Мэтти, — Рафи протянул женщине четвертак, — это для детей. Пусть сбегают в маркитантскую лавку. — Он внимательно посмотрел ей в глаза: — Ты их не торопи, дай им возможность поторчать там всласть.
— Что надо ответить? — строго спросила Мэтти детей и тут же сама подсказала: — Большое спасибо, дядя Рафи.
— Когда вы закончите все дела в лавке, возьми фургон и жди нас дальше по дороге, у реки. — Рафи выбрал именно это место, потому что туда можно было проехать из лавки маркитанта напрямую, минуя плац.
Мэтти положила ладони детям на головы и мягко повела их к двери. На пороге она обернулась и бросила на Рафи обеспокоенный взгляд.
— Все будет хорошо, Мэтти, — успокоил Коллинз женщину;
Когда она с детьми скрылась из виду, Цезарь произнес:
— Жена говорит, ты возил ей еду и вообще все необходимое. Говорит, без твоей помощи зимой им бы пришлось совсем солоно.
— Да перестань, — махнул рукой Рафи. — На что мне деньги? Только в карты продувать в Централ-сити.
— Слышал, что случилось с нарядом, который охранял табун?
— Викторио со своими воинами перестреляли всех пятерых солдат и еще трех пастухов, а сами скрылись с табуном. Сорок шесть коней.
Апачи раздели убитых, но не стали уродовать трупы, что еще сильнее укрепило Рафи в убеждении: с таким противником, как Викторио, армии сталкиваться еще не доводилось. Положа руку на сердце, Коллинз не мог винить вождя за то, что тот встал на тропу войны. Викторио лез на рожон, но что ему еще оставалось?
Рафи вспомнилась мудрость, на которую он наткнулся в одной из книг: «Месть есть своего рода стихийное и дикое правосудие»[114]. Правосудие Викторио было наидичайшим.
— Я же говорил, что Хукер сведет солдат в могилу.
— Говорил, — согласился Рафи. — Возможно, гибель солдат наконец убедит полковника Хэтча выдвинуть против капитана обвинения. Уже начали расследование.
Послышалась тяжелая поступь. Цезарь понял, что пришли за ним, и в глазах у него мелькнул страх.
— Рафи, что я мог сделать? Мальчик был болен, как я мог не дать ему одеяло?
— Так поступил бы на твоем месте любой приличный человек. — Рафи не стал говорить, что ни Ветка Кукурузы, ни ее мать, ни маленький Истээ не пережили жуткой студеной зимы в Сан-Карлосе. Цезарю и так предстояла сегодня не самая приятная процедура, так зачем еще больше расстраивать друга? Рафи положил руки ему на плечи и посмотрел в карие глаза: — А теперь слушай, шик ’иен, брат мой. Тебе сейчас будет очень тяжело, но надолго это не затянется. Плевать, что там будут делать и что говорить про тебя… Помни главное: когда все это закончится, ты отправишься со своей семьей домой к себе на ферму и совесть