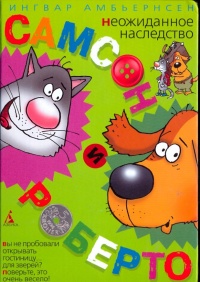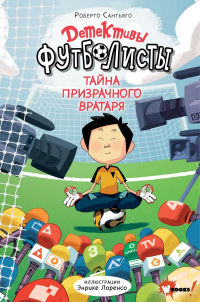В общем, они и раньше почти как не существовали, понимаешь?
– Как зелёная бабочка на зелёном мху.
Мадурер засмеялся.
– Тогда, может, для «Тигриса» и лучше, что он приобрёл двух новых пиратов.
– Конечно, – сказал Мадурер. – К тому же они будут всегда верны Крапулосу. Они с Саламина, значит, его земляки. Один, тот вообще его кузен.
– Как всё же тесен мир, – пожав плечами, сказал Сакумат. – Скажи, а нашему юнге будет какая-нибудь награда?
– Он станет боцманом.
– Прямо так сразу? А может, ему ещё чуточку рановато? И не будут другие пираты ему завидовать?
– Нет, они не завистливые. Никто из них не жаждет быть боцманом: не хотят ответственности. Но поскольку без боцмана всё равно не обойтись… и потом, мы можем сделать так, что Мадуреру к тому времени, как произошло это сражение, уже исполнилось шестнадцать лет. В шестнадцать лет ведь уже можно быть боцманом?
– На «Тигрисе», да, – сказал Сакумат. – Но ты устал, Мадурер, тебе надо…
Мадурер перебил его жестом:
– Правда, из-за всех этих столкновений путешествие может затянуться.
– Пожалуй. Но не очень. Зато ветер будет хороший. Как раз такой, как надо.
– Всё-таки лучше, чтобы битвы с испанцами не было, – сказал Мадурер. – Да, правильно, её не было.
– Знали бы испанцы, такой бы пир закатили на радостях! – сказал Сакумат. – Но теперь отдыхай, Мадурер.
Мальчик опустился на подушки.
– А когда «Тигрис» вернётся и подойдёт близко, видно будет, что Мадурер – боцман? – спросил он.
– Это уж точно. Может быть, он даже станет к тому времени капитаном. А капитана видно издалека, верно?
Это была последняя их игра, в которую Мадурер играл по-настоящему.
Глава пятнадцатая
– Отец, ты видишь? Луг уже засыпает, – сказал Мадурер.
Со времени последнего кризиса прошло девять месяцев. Теперь мальчик лежал в третьей комнате на более лёгкой постели, которую можно было переносить с места на место. Он больше не вставал, и отец чаще навещал его в течение дня.
Сакумат постепенно приглушил по-летнему яркие краски луга. Буйная трава изменила свой цвет. Цветы сжались, высохли и стали клониться к земле. Подобно медленной волне времени, кисть снова и снова проходила по траве, наполняя её сумеречным светом.
– Луг засыпает, – едва слышно повторил Мадурер.
По мере того как Сакумат продвигался дальше, постель переносили следом, так чтобымальчик мог наблюдать за работой. Во время сна большие подушки поддерживали ему голову, дабы облегчить дыхание. Часто он повторял одни и те же слова, словно не помнил, что совсем недавно уже произносил их.
– Луг засыпает, отец.
– Да, Мадурер, – сказал Гануан. – И насекомые тоже засыпают.
– Некоторые. Некоторые насекомые засыпают, потому что у них короткая жизнь. Зимой они не могли бы сохранить красоту крыльев. Они не могли бы сохранить их и потому отдают их лугу.
– Да, ты прав, – сказал Гануан, – я уже не вижу на всём лугу ни одной бабочки.
– Знаешь, что чувствует сейчас луг?
Зрение мальчика тоже ослабло. Часто Мадурер просил поднести постель поближе, чтобы лучше видеть происходящие перемены.
– Отец, знаешь, что чувствует луг?
– Трава, ты хочешь сказать?
– Да, трава, цветы. И не только они. Земля, животные, маленькие камешки, корни… в общем, луг. Весь луг. Знаешь, что он чувствует?
– Я тебя слушаю. – Гануан наклонил голову поближе к сыну.
– Луг чувствует счастливую усталость, – сказал мальчик таким голосом, словно открывал секрет. – Так бывает, когда много бегаешь во время игры. Луг наигрался, и теперь…
Он неожиданно замолчал. Гануан, с низко склонённой головой, ждал, когда он заговорит снова.
– Луг наигрался, – продолжал Мадурер. – Вместе с насекомыми, семенами и ветром. И все его краски тоже… уходили, возвращались… потом…
Он снова задремал. Как-то сразу. Как всё чаще ему случалось засыпать в последнее время.
Гануан приподнял голову, потом выпрямился сам. Молча следил он за едва уловимым движением плеч продолжавшего работать художника.
Сон мальчика был кратким. Он проснулся так же незаметно и продолжал говорить, как будто просто сделал паузу, чтобы перевести дыхание.
– Луг не знает, где верх и где низ, – сказал он.
– Что ты хочешь сказать, Мадурер? – спросил Гануан, снова наклоняясь.
– Он не чувствует корней в земле и стеблей в воздухе, – сказал Мадурер, – не чувствует, что внутри и что снаружи. Понимаешь?
Гануан молчал.
– Посмотри, отец, – сказал мальчик, указывая на стены вокруг себя, – видишь, корни луга в земле – как ветви, а стебли цветов в воздухе – как корни.
Со своего расстояния он словно накрыл ладонью пучок луговых цветов.
– Стебли трав как корни, что цепляются за воздух. Животные приходят и уходят, они внутри и снаружи. Уходят в землю и приходят с неба. А луг их охраняет. Да, он чувствует их всех и всех охраняет.
Гануан поднял ладонь сына и поцеловал ее.
– Сакумат правильно говорит: ты поэт, сын.
Мадурер улыбнулся.
– Это луг – поэт, – сказал он и заснул снова.
Сакумат совершил еще одну прогулку верхом. Потом поменял краски и кисти и снова прошёлся по лугу, новой волной времени.
Теперь он расширял промежутки между стеблями – убирал все лишние веточки. Цветы осыпались как зола, и за последними редкими травинками проглядывало тёмное полотно земли.
Гануан ничего не говорил художнику, и тот ничего не говорил ему.
Когда отец заходил в комнату к сыну взрослые обменивались лёгкими поклонами. Иногда, пока мальчик спал, Сакумат выходил и гулял поблизости от дворца.
Потом возвращался и молча возобновлял работу. Мадуреру теперь было нужно совсем немного. Из всех слуг за ним ухаживала только старая Алика, которой помогали сам Гануан и художник.
– Хочешь поговорить со мной ещё немного, отец? – спросил Мадурер.
– Если ты сам этого хочешь.
Мальчик посмотрел на него почти с любопытством. Потом помолчал немного и сказал:
– Я очень люблю тебя, отец.
– И я люблю тебя, Мадурер.
– Я очень люблю Сакумата.
– И я люблю его, – сказал Гануан и улыбнулся. Мадурер улыбнулся тоже.
– Он очень хороший художник, правда? – сказал он.
– Может быть, самый лучший художник на свете, – отвечал отец.
– По-моему, этот луг – его самая прекрасная работа, – заметил Мадурер, слегка наморщив лоб.
– Ещё прекраснее гор и моря?
– Да, ещё лучше.
– Ты теперь разбираешься в этом. Должно быть, так оно и есть.
Они говорили очень тихо, тише, чем позволял теперь Мадуреру его слабый голос. Так тихо, чтобы художник не мог их услышать.