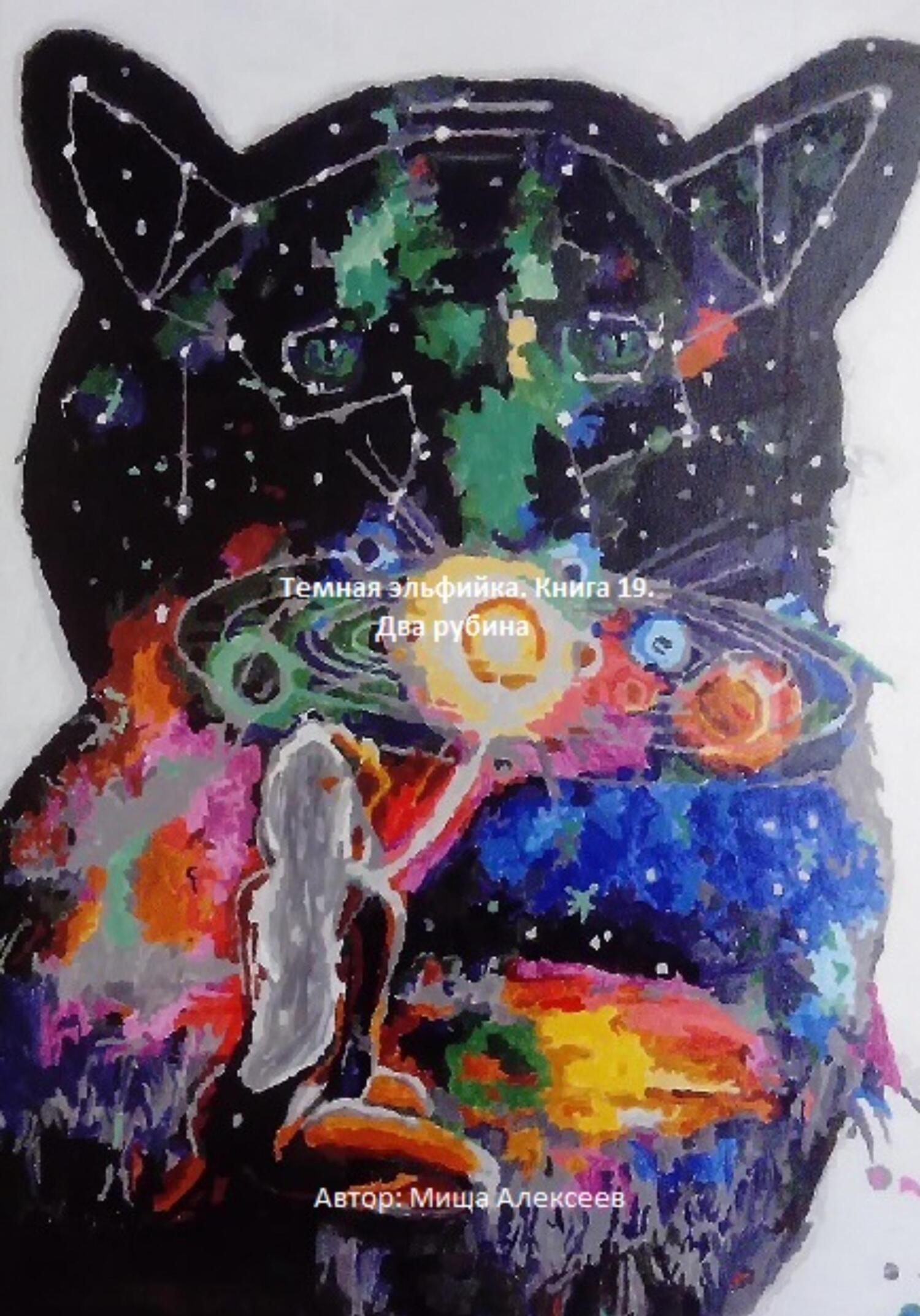черный — попробуй разгляди его! Но тетерка с шалашки его заметила.
Теперь и косач на ноги встал, шею вытянул, зоб вперед выпятил, шагнул к шалашке. Хвост веером, крылья распущены, по земле волокутся. Головой важно повертывает, а брови красные, красные. «Ло-ло-ло-ло-ло-о», — обращается к тетерке: мол, я тебя вижу, да обожду соперников.
А тетерка свое: «Кво-кво-кво…» — громче прежнего: не чуди, милый друг, ступай сюда.
Косач взлетел, круг над тетеркой сделал и снова сел. «Ло-ло-ло-ло», — зазвучало с вызовом.
Из перелеска послышалось ответное: «Чу-у-фышь… чу-у-фышь…» Мол, слышу, парень, лечу.
Через минуту свист в воздухе, хлопки крыльев, и к косачу приземляются еще четыре черныша.
Сначала обхаживают друг друга, потом лолокают и еще через минуту бьются с остервенением. Ножные шпаги устают, в ход пускаются острые крылья. Летят перья, но победителя пока не видно.
Не выдержал я тут, братцы: прицелился, выстрелил. Один косач забился, перевернулся лапками вверх. Остальные застыли, стоят в замешательстве.
Но вот снова раздается: «Ло-ло-ло-ло…» И опять шпаги в работе, льется кровь, летят перья, а тетерка нежно подзадоривает косачей: «Кво-кво-кво…»
Снова прицел, спуск, грохот выстрела. Промахнулся, моя ошибка.
Тетерка снимается с места: поняла, наконец, что под ней человек и грохот идет от него. За ней поднимаются остальные птицы. На земле остается один косач.
И снова хлюпает под сапогами грязь, а позади меня квохчут тетерки, лолокают и чуфышкают косачи.
КУВШИНОВСКИЕ ГЛУХАРИ
Думал забыть охоту, успокоиться на старости лет. Да где там! Вечерком посмотришь на ружье, подумаешь: мол, больше-то уж меня не сманить в глубокие леса за тридевять волоков. А ружье блеснет вороненым крылом, будто скажет: «Чудак, все равно дома не усидишь». И верно, после крепкого утреннего чая приходит такая бодрость, что чувствуешь себя помолодевшим. Снова надеваешь патронташ, берешь посошок в руки — и в путь.
А тут ввалился ко мне в квартиру Валька Саперов, говорит возбужденно:
— Дядя Панкрат сказал, что нашел глухариное токовище, да такое, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Хвалился, что после полдника стеганет в Кувшиновское болото на глухариную песню. Может, и мы попытаем счастья? У меня два выходных, а ты свободный человек, на пенсии.
От станции Вожега до Тигины переход невелик. А дорога? На ней черт ногами глину месил, да, видно, устал: так недомятую и раскидал.
Мы с Валькой пристроились прямо на цистерне молоковозной машины. Ноги трясутся, ветер бьет в лицо, волосы дыбом встают. А Панкрат Кузьмич в шоферской кабине сидит и папироской попыхивает. Заметил нас. Высовывает из кабины голову, смеется:
— Куда собрались?
— Твоих глухарей считать, — кричит в ответ Валька, стараясь пересилить натужный рев мотора. — А что, дядя Панкрат, разве не возьмешь нас к своим глухарям?
Я знал, что в ремонтных мастерских, где служил Панкрат Кузьмич, рабочие прозвали его Сухой Оглоблей. Но ведь бывает, что весной и сухая оглобля зеленеет.
Три часа терзались мы на молоковозе. Пели «Дубинушку», вытаскивая машину из липких колдобоин.
Бойкий шофер, весь испачканный глиной, посмеивался:
— Это вам не юрьев день, а страстная суббота. Вода и грязь — кругом бегом.
Наконец добрались до первой деревни. Отсюда направились пешком к Пербовским перелазам. Идти было мягко: ноги на пожнях в глину не вязли. Но как только вышли на поскотину — опять грязь и вода.
Дорогу правит Кузьмич с посошком в руках. Я иду за ним, вижу его широкую спину. Позади меня — весь обвешанный Валька: вещевой мешок у него сзади, как коровий хвост, болтается, ягдташ по коленям стучит, а сбоку в заковыристых ножнах нож приспособлен.
— Не устал, паренек? — спрашиваю я Вальку.
— Порядок! — бодро отзывается он и громко чихает. — Вот только с носом беда: остудился, видно.
— Ладно, — успокаиваю я. — У огонька скоро отогреешься.
Настоящая беда ждет нас впереди. Оказывается, что переправа на реке Пербово снесена водоразливом. Одни деревянные быки торчат из-под воды.
Кузьмич трет переносицу.
— Что будем делать?
— Переправу строить, — откликается Валька.
— А ну вас к лешему, — машет рукой Кузьмич и идет вверх по течению к старой мельнице.
Мы едва поспеваем за ним. Нажимаем изо всех сил.
К нашему счастью, на плотине покинутой мельницы-водницы сохранился старый переход. Мы аж смеемся от радости.
Но пройти по узкому тесаному бревну не так-то просто. Первым ступает на него Кузьмич и идет уверенно, спокойно, как по половице.
А с другой стороны кричит нам:
— Бревнышко-то, робятушки, того и гляди разломится.
— Не пугай, дядя Панкрат, мы люди дотошные, — отвечает Валька и тоже ловко перемахивает по бревну.
Наконец и я перехожу на другой берег. Кузьмич улыбается:
— Ну вот и добро, а я-то думал, что вы сосульки. Пошли вперед, — командует он. — Вон в той ложбинке огонек разложим, чайку сварим. Попьем — и на глухариную песню поспеем. Кувшиновское болото отсюда начинается, а кончается за Шишовым лесным кряжем в Задовжье: поди, десятка полтора километров болотина тянется. Троп через нее нет, одни малые бочаги да трясина. Ладиться вдаль не надо, послушаем песню на окраешках болотины.
Метров сто не прошли, как Валька, замечтавшись, запнулся и полетел вверх тормашками. На лоб шишку посадил, да такую, что медным пятаком не закроешь.
— Землю ногами ощупывают, а не головой, — сердится и смеется Кузьмич.
Костер развели из сухих валежин. Вскипятили чайник, а чаю-то ни у кого не оказалось: дома забыли. Тогда Кузьмич собрал брусничного и черничного листа, перемешал их и в чайник бросил. Ничего получилось: и цвет и запах приятный. Напились лесного чаю досыта.
Панкрат Кузьмич отдал последние распоряжения:
— Ты, старина, — это он меня так назвал, — ступай вон на ту проплешинку, что в бор упирается. Это твой участок. Дальше — никуда. А тебя, паря, — обратился он к Вальке, — я себе в подручные беру, но с уговором — не сопеть, не чихать и делать то, что буду делать я. Понял?
И мы разминулись. Я вышел на указанную мне опушку соснового леса, притулился к мохнатой сосенке и стал прислушиваться.
Тихо, как будто вокруг все заснуло. Лишь слегка поскрипывает короед. Сумрак словно повис над землей. Взошла луна, над моей головой появились звезды.
И вдруг неожиданно: «Д-док… Д-док…» — не часто, но и не редко, с перерывами.
Вскидываю голову и вижу: хозяин этих суземов сидит на толстом суку и осматривает свои владения. Осторожная птица, смышленая.
«Доо-кк… до-о-о-кк…» — снова роняет глухарь, и еще раз через малый промежуток, а потом: «Ток-ток-ток… ток-ток-ток… Шифи-шифи-шифи…»
Я разглядываю певца. Это крупная птица с бородкой и густыми красными ресницами. Жмусь к дереву, стою не шелохнувшись в ожидании новых «шифи-шифи-шифи». Под песню