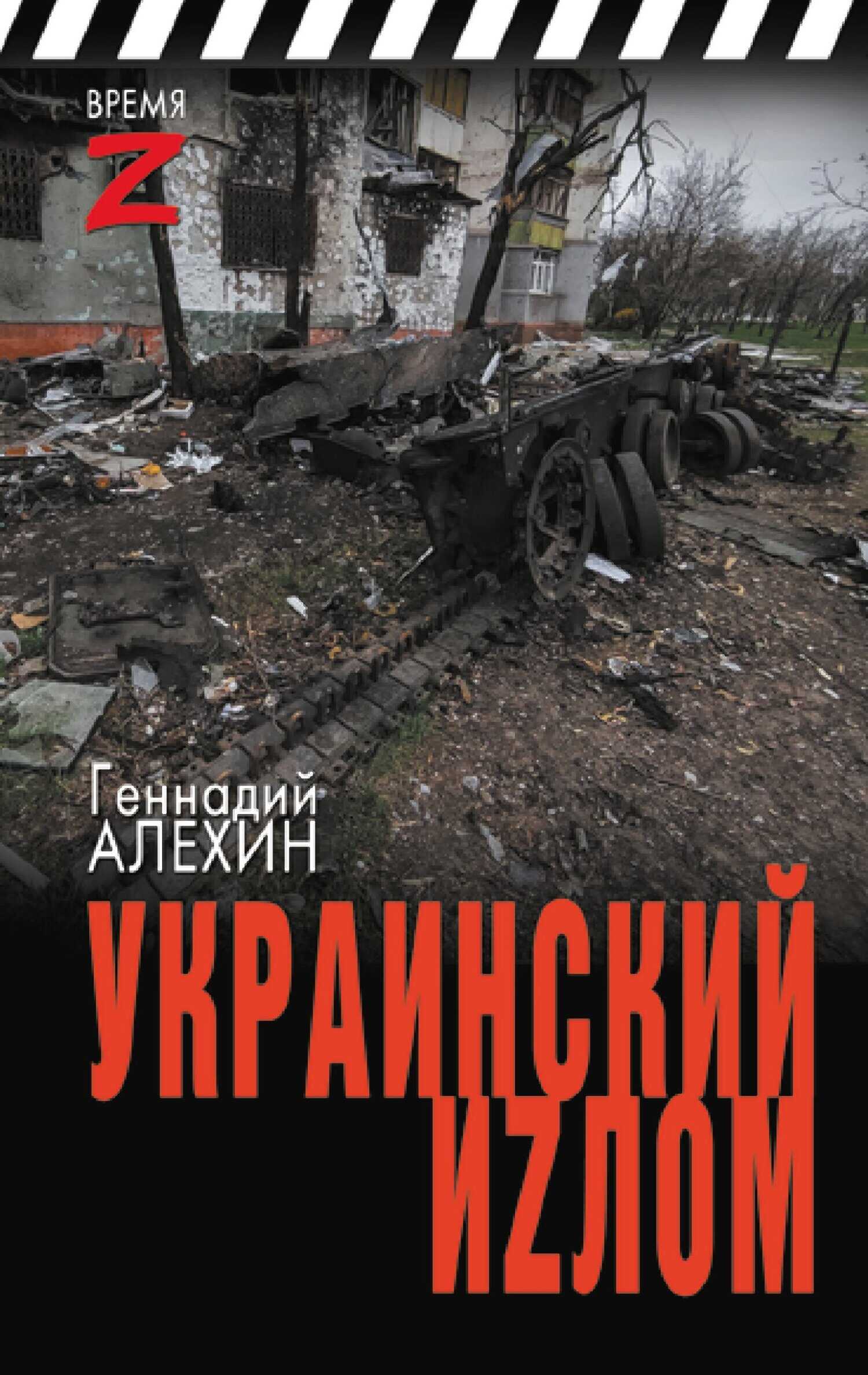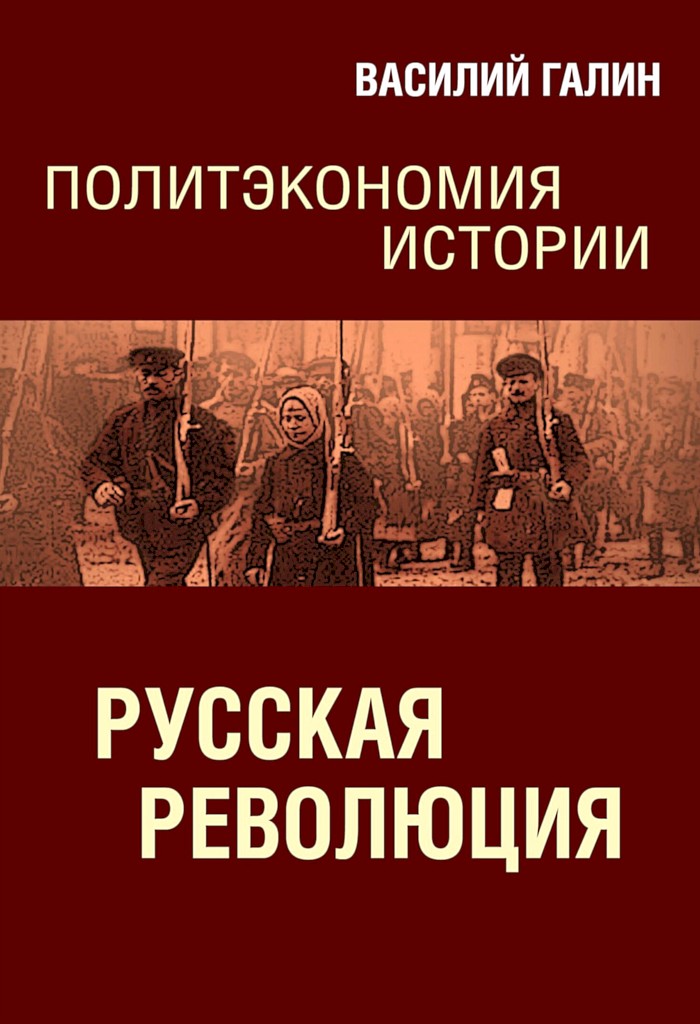движение и наступать. Но ни уговоры, ни просьбы не помогали. Кандалин написал рапорт об увольнении. Его примеру последовали некоторые начальники служб. Однако ни один военный медик рапорта об увольнении не писал!
Затем произошла смена командования. Вилли Алиевич в эти дни стал вести дневник, куда записывал эпизоды, хронику событий и свои выводы. А обнародовал свои записи много позже, спустя двадцать пять лет. Вот некоторые выдержки:
«1–3 января. Войска группировки „Запад“ заняли стадион и парк имени В. Ленина. Наша медслужба расположилась в помещении небольшого кафе. Оборудовали комнаты под перевязочную и процедурную, начали принимать раненых. На коротком совещании распределили обязанности: кто чем будет заниматься, постарались наладить медицинский учёт, нашли первичные медицинские документы, начали их заполнять.
Хирурги приступили к первичной обработке ран и инфузионной терапии. Остальные врачи стали им помогать. Понемногу все стали на время хирургами. Те, кто имел свободное время, занимались эвакуацией раненых в МОСН (медицинский отряд специального назначения) из Ростова-на-Дону. Его развернули на окраине Грозного».
«6–7 января. Созданы сводные отряды для штурма президентского дворца. Появились потери среди медицинского персонала. Первый врач старший лейтенант Шульженко погиб в ночь с 31 декабря на 1 января. 7 января во время штурма погиб капитан Олег Соболев. Он действовал в роли фельдшера и санинструктора».
«Штурм был тяжёлый. Ежедневно привозили много раненых. Некоторых не успевали довозить. Были дни, когда через каждые полчаса поступало до 25 человек. Много помогал медикам заместитель командира дивизии полковник В. Еремеев. Он оперативно выделил для раненых три бронетранспортёра. Благодаря ему в приказе по группировке мы теперь считались как объединённый медицинский пункт группировки (эвакоприёмник). Меня назначили начальником этого пункта».
«15 января. Перебазировались в подвальное помещение. И опять в здание общепита. На этот раз им оказался бар-ресторан с большими подвалами. Контрразведчики предупредили нас, что будет обстрел рано утром. До рассвета весь объединённый медпункт перевели в „подземелье“. Я с капитаном С. Сапрыкиным остался для подстраховки. Не все знали о новом месте дислокации. Оставили машину МТ-ЛБ с санитаром.
В пять утра начался миномётный и артиллерийский обстрел. Снаряды рвались рядом. Поступили 19 раненых. В основном связисты и автомобилисты, которые просто не успели уйти. Среди раненых – начальник автомобильной службы дивизии. Получил тяжёлое осколочное ранение в шею. Рядом в этот момент оказались медики. Затем больше не испытывали судьбу и сразу же переехали в подвальное помещение. Теперь мы стали именоваться подземным госпиталем».
«Не забуду мужественную работу прапорщика с его легендарным МТ-ЛБ. Он занимался эвакуацией раненых. Постоянно под пулями, но дело своё знал исправно. А вскоре Костя (прапорщик) погиб».
«15–20 января. По мере пребывания новых команд спецназа, морской пехоты возникали курьёзы. Однажды морпехи обстреляли подвал. Пули буквально просвистели над головой хирурга М. Муталибова. Решили с ними разобраться по-мужски. Правда, мужики сразу извинились. Они и предположить не могли, что здесь, на передовой, расположен госпиталь, пусть и подземный.
Поговорили и решили, что морпехи оставят одного своего врача у нас. Для контроля и медицинского учёта своих раненых и больных. Так в наших рядах оказались врачи морской пехоты Тихоокеанского флота. Затем рядом с нами трудились медики аэромобильного отряда, которые принимали десантников. Организация взаимодействия между медиками различных родов войск состоялась».
«В начале февраля бои в городе стихли. Медицинский пункт (подземный госпиталь) переместился в район Андреевской долины. Снова рекогносцировка, выбор места, оборудование помещений и прочие повседневные заботы. Но стало легче. Помог приобретённый опыт».
Кстати, надо отметить, что подземный госпиталь бесперебойно существовал целый месяц, в период тяжелейших и кровопролитных боёв в Грозном. Военные медики работали по 16–18 часов в сутки. Операции шли одна за другой, без перерыва. Тяжелораненые ежедневно эвакуировались и отправлялись в МОСН, на большую землю. А Курбанов занимался, кроме всего прочего, организацией питания, снабжения, взаимодействия. Сотни солдат и офицеров получали первичную квалифицированную медицинскую помощь. А это спасённые жизни. За них и боролись ежедневно: днём и ночью. Под непрекращающуюся канонаду. Совсем рядом шли тяжёлые бои.
Весной 1995 года началась ротация. Военные медики, прошедшие суровые испытания первых месяцев чеченской войны, убывали к новым местам дислокации. Майор Муталибов и капитан Сапрыкин отправились на учёбу в Военно-медицинскую академию имени С. Кирова в Санкт-Петербург. Капитан Курбанов стал ординатором Владикавказского военного госпиталя. Для него война продолжилась. Правда, уже без разрывов снарядов. Но в госпиталь постоянно поступали раненые. И их надо было спасать…
Глава 6. Вертолётчик от бога
В официальных кругах чеченский конфликт назывался «наведением конституционного порядка», а в войсках группировки его иронично прозвали «пластилиновой войной» (из-за непролазной грязи, особенно в осенне-зимний период).
Погода на Северном Кавказе – мягкая. Ударит лёгкий мороз, затем сорвётся дождь, а с вершин гор вдруг спустится густой туман. Вот и получается на земле – месиво, грязь, «пластилин», а в небе – не видно ни зги.
Вертолётчики называли весь этот пейзаж туманной войной. Сложные погодные условия, когда видимость становилась нулевой, для боевиков превращались в подарок судьбы: мол, с воздуха не накроют. И полной неожиданностью становилось то, что винтокрылые машины зависали над местом боя, практически на ощупь опускались на землю, высаживая группу спецназовцев или десантников.
Боевики боялись вертолётов как черт ладана. Винтокрылые Ми-24 (огневой поддержки) и Ми-8 (военно-транспортные) доставали их везде: в горных пещерах, густых лесах и укреплённых опорных пунктах. За любую информацию о вертолётчиках чеченские боевики готовы были заплатить немалые деньги. Даже существовал своего рода прейскурант, согласно которому за сбитый вертолёт любому боевику полагалось вознаграждение – от 20 до 50 тысяч долларов (в зависимости от типа вертолёта).
«Дёшево они нас оценивают. Но ничего, мы заставим их поднять ставки», – шутили вертолётчики.
Одним из тех, за кем шла настоящая охота на чеченской войне, был полковник Александр Дзюба. Летал в Афганистане, прошёл все горячие точки на постсоветском пространстве, участвовал в двух чеченских кампаниях. Совершил более 2700 боевых вылетов! Многократно возил (выражение вертолётчиков) представителей миссии ООН и ОБСЕ, политиков, журналистов – наших и зарубежных. А уж о наших генералах, которые в разное время командовали группировками войск на Северном Кавказе, и говорить не приходится. На такие боевые вылеты, как правило, назначался А. Дзюба.
Поэтому легендарный вертолётчик и находился на особом контроле у боевиков. Конечно, на войне каждый как-то пытается оградить себя от беды. Найти источник поддержки, защиты. Поэтому верили в приметы, обереги.
Верили и вертолётчики: кто-то в кабину брал иконку или крестик, кто-то перед вылетом традиционно плевал через плечо.