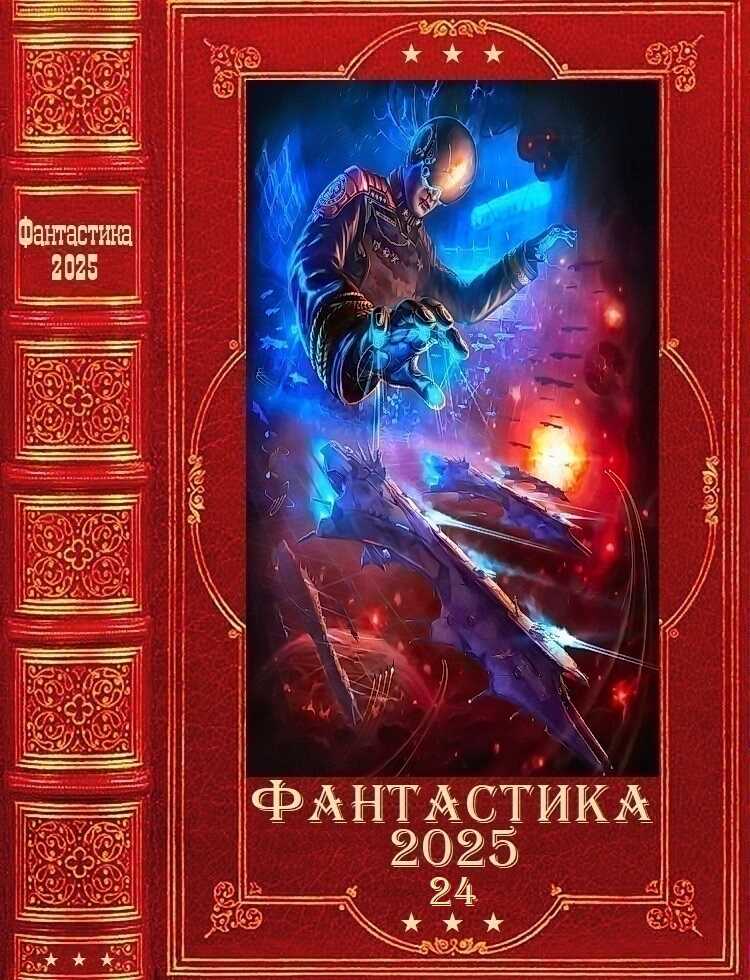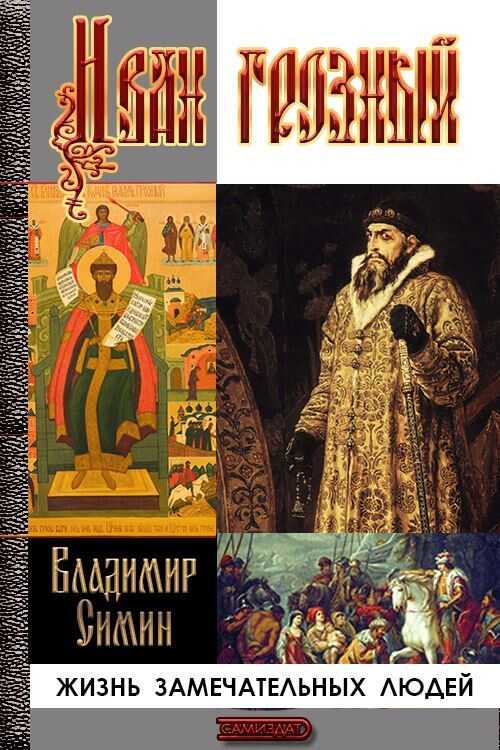что ничего больше я ей не могла дать. Хлеб, и тот сырой, горький, и я почти весь его уничтожила в завтрак. Бабуся вопреки моим протестам засунула мне в карман конфетку, это та норма, которую они получают утром на весь день. Вот ведь всегда она была такая. Удовлетворение, большое спокойствие она чувствует, когда сделает кому-нибудь хорошее. До боли сжимается сердце, когда смотришь на ее сморщенное, так ужасно похудевшее лицо, на серо-землистый цвет кожи. Только глаза, всегда добрые бабусины глаза сияют, как всегда большой человеческой любовью и теплотой. Милая моя, бесконечно дорогая старушка. Что я в силах сделать для тебя?»
Жалоба на плохое размещение в больнице пожилого человека имела долговременные последствия. Пришла к бабусе еще одна комиссия. «Торжественно на ушко она рассказала, как вызывали ее к директору и один из представителей, обследовавших их больницу, долго и подробно с ней беседовал, спрашивал о жизни, о первых днях по приезде, как они валялись на полу и прочее. Бабуся так же шепотом сказала, что он передал «привет ее внучке». Старушки в палате меня окружили и наперебой рассказывали, что им стало жить значительно лучше и кормят лучше. Милая моя, чудная бабушка!»
Май 1943 года. «На подушке – сморщенное бледное, как воск лицо моей дорогой старушки едва выделяется на фоне светленькой косынки, которой повязана голова. Я испугалась, казалось, сердце перестало биться: неужели умерла? Бедная моя старушечка. Нет, она жива, жива! Бабушка очень обрадовалась. Ее лицо болезненно сморщилось, она радовалась и плакала. Милая, бедная, дорогая моя старушка. Она замерзает в казенной холодной кофточке, под одним лишь легким одеялом. А я? Мне не жарко и под двумя одеялами, одно из которых теплее. … много, очень много приходится ей переносить трудностей. Долго беседовали мы, много-много мне рассказывала бабуся. Она очень волновалась обо мне. Боялась, что случилось что-нибудь, что я заболела…быть может, ранена. Даже решила, что мое последнее к ней письмо написано чужим почерком. За что переживает она столько неприятностей? Мне безумно тяжело слушать эти горести дорогой старушки. Расстроившись, я не могла даже сдержать слез, бабуся вспоминала всех, и маму, и Люсёнку, и Хвастуновых, причем обязательно должны дожить до встречи со всеми, увы, уже очень малочисленными родными. Бабуся, смеясь, пообещала жить до 150 лет. Наконец, надо уходить. Я взяла квитанции на ее вещи, получить их из камеры и принести ей хоть немного теплого. Пошла я к директору, но разрешения на получение вещей мне он не дал, пообещав, что через пару дней вещи будут выданы больной на руки. Будет ли это так? Бедная моя старушка, чего только ей не приходится переживать? Рассказывала она о ночах, когда просыпалась в залитой огненным заревом палате. Бедная бабушка, она не боялась, нет. Она, как и все вокруг, становилась на колени и начинала молиться. Бабуся думала обо мне».
В 1943 году нормы хлеба увеличились, записей о еде в блокадном дневнике стало меньше. Осенью Ирина пишет: «Очень рада, что ее увидела. А бабушка проговорилась, что очень боялась моего отъезда в Ташкент. Она говорит, что не пережила бы. А я? Нет, я конечно пережила бы, но… мне бесконечно тяжело оставить ее одну. Нет, нет, я не уеду.
…она очень слаба. Как я рада, что снова вижу мою дорогую старушку. Милая, чудная, бесконечно дорогая бабушка, ведь ты единственный человек, который остался от всех близких и дорогих людей. И в этом полуразрушенном, но дорогом нам обеим городе, ты, как немногие стойко перенесла тяжелые лишения, выпавшие на твою долю.
Бабусина приятельница Елена Сергеевна, очень симпатичная седая старушка, рассказала мне, что бабуся неважно себя стала чувствовать. Рассказала мне в стихах даже (она поэтесса) о невзгодах их жизни в больнице.
Бедные старушки! Бабушка пообещала мне, что с завтрашнего дня будет стараться делать все, чтобы чувствовать себя лучше. О, как бы мне хотелось этого. Неужели моей дорогой старушке не удастся дожить до того огромного, радостного дня, с которого начнется вновь наша мирная, трудовая и счастливая жизнь?»
Ирина вспоминает в дневнике о том, что когда еще училась в школе, в Институте, она совершенно серьезно уверяла всех, что умрет вместе с бабушкой, так как любит ее больше всех.
В 1944 году после полного снятия блокады начались разговоры о возвращении эвакуированных ленинградцев. «С бабусей я просидела часа полтора. Выглядит моя старушка неплохо. Нет, не плохо! Чувствует себя сейчас относительно бодро, чему я очень радуюсь. Говорили мы много, сразу обо всем. Бабушке хочется, чтобы скорее вернулись все родные».
Васса Степановна Кустова прожила 91 год. После войны на членов семьи Морозовых навалились новые дела, проблемы, но они периодически навещали старушку в доме хроников. Пребывание в медицинском учреждении сказалось благотворно на ее здоровье. В том числе и благодаря вниманию родных она прожила столь долгую жизнь.
Разбитая банка с супом
Конец 1930-х годов. Тучи сгущаются. Пламя Советско-финской войны опалило Ленинград, напомнило об опасности. Ирина Морозова, поступив в Политехнический институт в 1937 году, организовала в вузе курсы медсестер военного времени под шефством зав. кафедрой Военно-медицинской академии, впоследствии заместителя главного хирурга РККА С. Гирголава. Стала политруком курсов. В финскую кампанию уже работала в госпиталях, организовывала там дежурство студенток.
С началом Великой Отечественной войны мама Агриппина дома все охала: «Что-то будет?»; отец же Владимир Иванович уверенно говорил, что «немцам этот номер не пройдет» и что война закончится в самое ближайшее время. А разговоры об эвакуации вообще излишни. Из города убегут только трусы.
На второй день войны Ирина побежала в военкомат, целый день осаждала его. То же – на завтра. Тут стало ясно: завтра пошлют на фронт. Настроение приподнятое. Через два дня, наконец, отобрана в военный госпиталь № 1170. Завтра ехать на фронт!
Но скоро сам Ленинград стал фронтом. Мать Агриппина Ивановна уже сложила рюкзаки на каждого: «на особый случай».
Эвако-сортировочный эвакогоспиталь № 1170 – один из 600, что появились в городе – стал госпитальной базой фронта. Он расположился в доме 17 по Обводному каналу (сейчас здесь размещается Духовная академия). По подъездным железнодорожным путям на территорию госпиталя привозили раненых с фронта, из медсанбатов.
Ирина стала военнослужащей, старшиной медслужбы. Она с ее активным характером, энергией, способностью осваивать новое бросается в дело. Привыкает к новым обязанностям. Работает плотно, но успевает вести дневник. «Мне нравится наша врач. В перерывах между выполнением назначения врача мы, как и дежурные палатные сестры, принимаем раненых (называем их по мирной