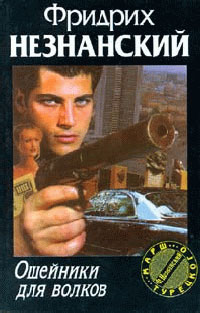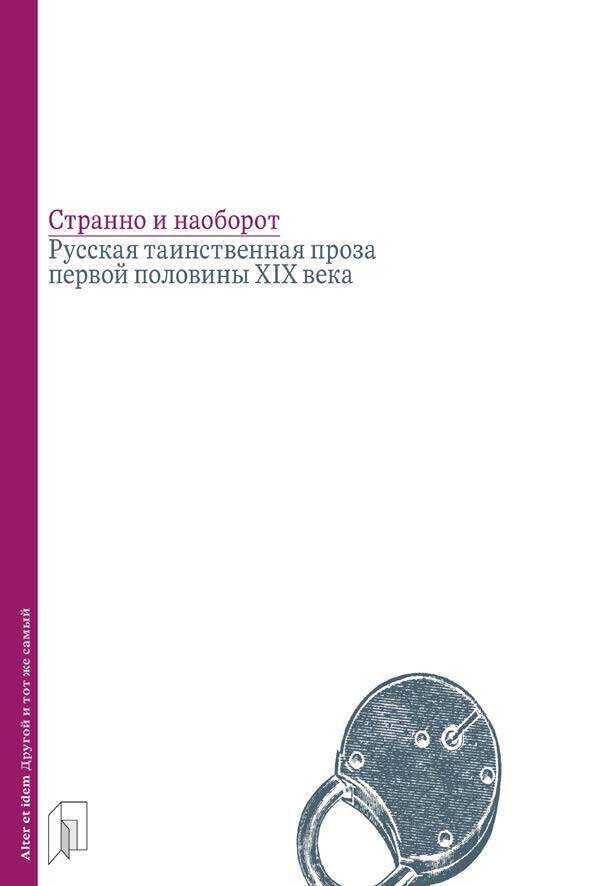гениев или переселения народов, любые формы, ими порождённые, будут находиться в состоянии вражды. Вражды, временами тлеющей, временами вспыхивающей с силой ненависти, не вызванной, вроде бы, никакими мотивами разума и логики, но на самом деле, подчиняющейся почти человеческой психологии подсознания – эта сила, вызванная обидами, ущемлениями, обманами, потерей смыслов, снятием покровов, лишением интимности, неудовлетворёнными желаниями, но, главное, подспудным стремлением к гармонии и цельности!» Я тебе почти дословно зачитал, меня поразило это в своё время! Ведь это, старик, в 83 году написано. Когда Запад поставил на Хакматьяра и Назари. И знаешь, что меня пуще прочего подковырнуло? Обычно у людей так: придумал червь кабинетный интегральное исчисление, и сразу кто-то другой вслед. Мысль гения переносится безо всякой книжной материи другим, из круга продвинутых и посвященных, и на тебе, уже с его мыслью другие носятся, как со своей. Эдакая связь мыслей, наведение слабых токов. Все Канты – Гегели, все Ньютоны – Лейбницы, все Эйнштейны – Пуанкаре. Не все – но сонм. А Оксман… С 83 года в каком одиночестве!
– И что с ним теперь, с этим мудрым Оксманом?
– Консультировал Белый дом. Вот ведь были у них консультанты! А потом заявил, что иудаизм, ислам и европейское христианство – это вторичные плоды не разных, а одного архимышления, только вызревшие в разное время. А потому находящиеся в психологических отношениях конфликтующих родственников – отца, сына, младшего брата. И никакого Святого Духа. И что проблемы надо решать методами психотерапии, разрешения семейного конфликта, поиска смысла и так далее и так далее. Много их там, этих методов. Предлагал изменить мировой порядок, заменить ООН на совет мудрейших.
– И что? Мне было бы близко такое возвышение личности над историей!
– При чем тут возвышение?
– Как же, ты «западник», а не видишь. Один человек сильнее мира, – писатель вдруг употребил чужое уверенно, как свое.
– При чем тут опять же «западник»… Утопия. Его, как ты понимаешь, послали подальше. Он уже старый был, бросил университет и вообще всё бросил. В пустыню перебрался. В пустыню мысли. Ушёл в каббалу. Его объявили выжившим из ума. Больше не печатали. Я еще на него досадовал за пустыню.
– В каббалу?
– Спрашиваешь, зачем я с Утой, если их познал? Я Оксмана корил, а теперь сам понял. Я сам в свою каббалу уйду. Лучшей пустыни мне не найти. Я Европой бредил, когда Ута под стол пешком ходила, так что я такую судьбу заслужил, теперь надо чашу сию до дна испить. В жизни всего две воды – живая да мертвая. Остальное – водка. Для русского духа, по крайней мере. Вот такой Назарет. Кстати, знаешь, в чём насмешка твоей субъективной истории? На место Оксмана в университет пришёл бывший американский резидент в Кабуле Брэд Пит! Вот это окончательный бумеранг.
Балашов от неожиданности выпустил сигариллу, и она красным светлячком порхнула вниз.
– Ай, мать вашу! Осторожней там. Раскидались… Прямо на причёску новую! – донеслось снизу, из-под балкона. Кричал грубый женский голос.
– Каббалисты, мать так!.. И в Новый год от жидов покоя нет! – добавил и мужской.
– Вот сейчас, да отгружу тебе за жидов по мозгам! Тебе одному за все три тысячелетия гонений! – ответил Логинов, перегнувшись через балкон и стараясь разглядеть внизу неожиданных собеседников.
– Ага! Грузило не отросло… – задиристо крикнула женщина, но её спутник промолчал. Он не был настроен пострадать от руки Логинова за века изгнания древнего народа. Инцидент был исчерпан.
– Ну вот, видишь? Это сейчас так. А когда вспыхнет ваша дуга, когда исламский мир взорвётся и «немцы» побегут укреплять Россию-матушку – что тогда здесь настанет, представляешь? Вот таких казачков будут укреплять. Знаешь, сколько их сразу выползет! Бу-ме-ранг. А вместе с ним – сумерки человечества. Никто и ничему не учится. Новый век, новая жизнь… Пусть будет Германия.
Балашов сник, более не находя аргументов в этом споре. Он знал, что сейчас не в силах объяснить Логинову свое чувство, нет, свою веру, нет, пожалуй, свою интуицию, обещающую надежду, что как раз в новом, вернее, именно сейчас по-новому формирующемся мире, в который мостиком служит Миронов, может найтись предназначение для той аптечной России, от подобия с которой он пока не может избавиться. Подобия, которым она еще держится в отсутствии побед, после исхода Логиновых!
Владимир, напротив, готов был обосновать свои решения и шаги.
– Да, я размышлял об этом. С Картье, мир его памяти, не один час в спорах провели. У них система. Хитрая у них система, тонкая, с защитой от казачков. Власть отделена от народа. Вроде демократия, а пойди доберись до неё, до родимой! Тяжёлая, инертная, с налёту не сдвинешь. Жди себе пару лет до следующих выборов. А потом еще и ещё. Да они боятся своих бритоголовых пуще турок и курдов. И они знают, как их в узде держать. Да, будут правые править. Да, тоска. Но не погромы. А что до бытовухи, до соседей, до взглядов исподлобья – так мне плевать. Мы вот с Утой в доме будем зимовать, она у меня богатая станет. А на остальное плевать. Не моё, чужое. И хорошо. Одиночество – оно сродни голоданию. При грамотном применении очистит отравленную душу. Всё.
Логинов помолчал и добавил, не слыша от Балашова отклика.
– И ты мне завидуешь, Игорь. Скажи честно. Честно скажи. Может быть, мы в последний раз говорим по душам.
– А ты её все-таки… любишь? – прошептал одними губами Игорь.
– Я говорил тебе, я жену свою… Любовь – это когда кажется, что жить без человека ни за что не сможешь. А ведь можешь! Ведь живёшь. Как она от меня уплыла, я понял, что иное чувство важнее.
– Какое?
– А полноты. Скупой полноты. Другие называют это верой, но мне это слово чуждо. Человек может без всего прожить, только не без самого себя. Человек должен свою границу чувствовать и наполнять её до конца. Здесь не вера, здесь знание себя и умение. Меня сейчас хватит на Уту. И только на неё. Понимаешь?
– Понимаю. Но не завидую. Честно. Я еще не исчерпал здесь смысла. Я не воин, но, знаешь, мне еще есть за что воевать, – сбивчиво зачастил Балашов. – Ты знаешь, я решил пока не издавать книгу. Пока не разберусь, отчего мне кажется, будто вчера и завтра через меня связаны. Ведь можно себя по-разному до границ наполнять. Я Маше предложение сделал. Сегодня решится. Сегодня всё решится.
Логинов покачал головой и вдруг подошёл к Балашову и обнял его за плечи:
– Держись. Она сейчас откажет тебе,