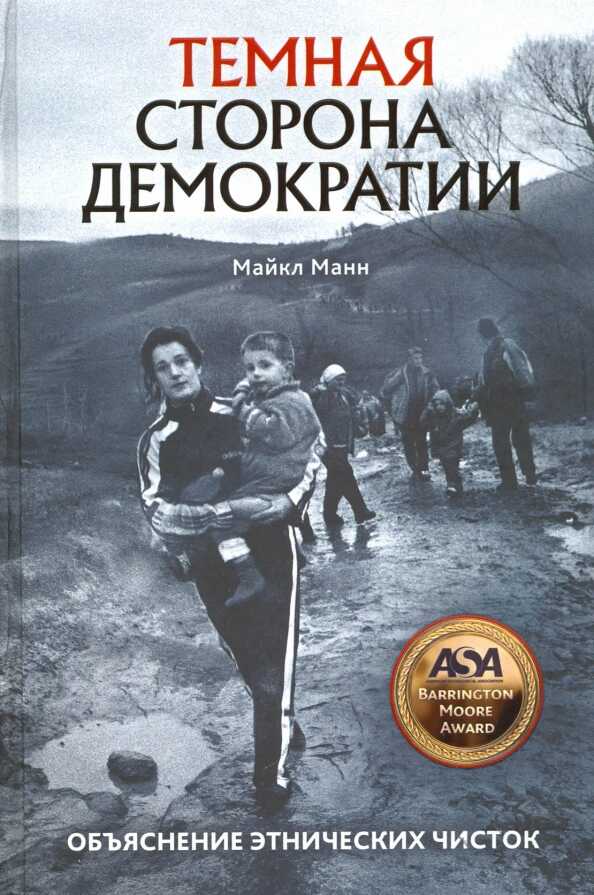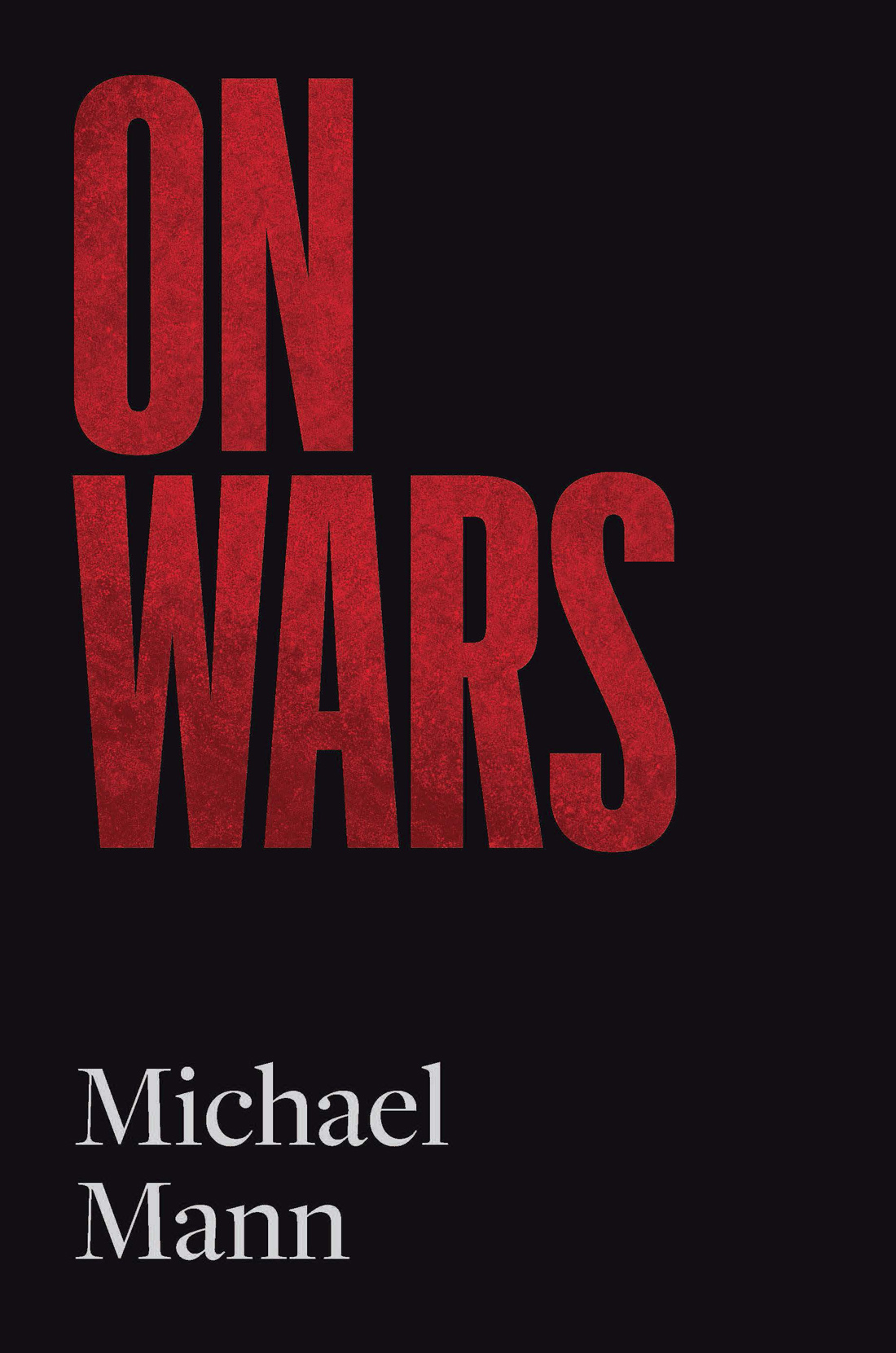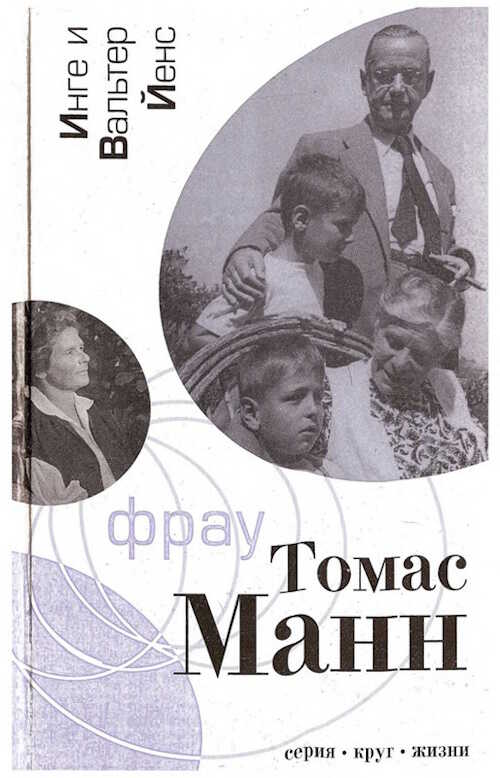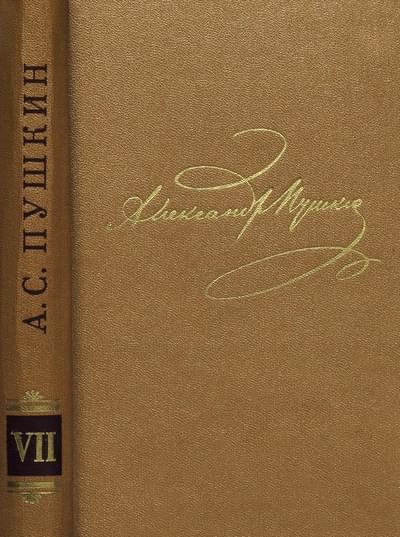показном — главное, не веря на самом деле, что в искусстве есть показное. Я помню, какое сердцебиение и какую неудержимую радость я пережил, увидев стену Акрополя, совершенно голую стену (расположенную слева, когда поднимаешься к Пропилеям). И я спрашивал себя, может ли книга, независимо от ее содержания, произвести подобное действие. Не заложены ли в стройной связи слов, в своеобразии остальных элементов, в гладкой поверхности согласованности целого — не заложено ли во всем этом внутренней добродетели, своего рода божественной силы, чего-то незыблемого подобно принципу? (Я начинаю рассуждать, как платоник.) Почему, например, возникает необходимая связь между удачно найденным словом и его звучанием? Почему невольно приводит к стихам слишком большая концентрация мысли? Не управляет ли в этом случае чувствами и возникающими картинами закономерность созвучий? Не оказывается ли самой сутью то, что в самом начале воспринимаешь как внешнее… Я мистик, я ремесленник формы. Только в правильно найденной форме вспыхивает и оживает моя фантазия. Пестрые и звучные имена до такой степени завораживают меня, что я начинаю верить, будто некогда присутствовал при решении их судьбы. Я до такой степени напоен красотами древнего мира, что немое изумление перед зарождающимся, только что возникающим, становится неведомо мне. Меня с такой силой влечет нечто затерянное в глубинах истории, словно я сам присутствую при его свершении. Я мог бы беседовать с восточными жрецами; а при виде цыган, заглядывающих из зеленых повозок в ворота моего родного города, я чувствую, как самая глубина моего «я» откликается братским чувством. Ибо я обладаю, — может быть, это у меня от моих северных предков, — сложением утонченного варвара, телом великана со взвинченными нервами и духом, с трудом освобождающимся от шлака сознания. Я должен преодолеть в себе все животное, чтобы духовное взяло над ним верх. Для обуздания этого мне пришлось обречь себя на нездоровый режим: запереться дома и углубиться в ночную работу, пока глаза не полезут на лоб. Из всех пяти окон моей комнаты виден монастырь, вокруг простирается серый, унылый край: блеск луны отражает река, и, окруженный безмерным покоем, я вздрагиваю от малейшего шороха, от потрескивания ветвей. Приди же ко мне! Что-то начинает трепетать в собранных мною волшебных словах, и мое творение оживает передо мной в безумно волнующих покровах, в туфельках танцовщицы!
Но взгляни сам на себя: как это изнуряет тебя! Твои плечи сгорбились под сюртуком, напоминающим монашеское одеяние; лицо, с галльскими усами, прежде упругое и округлое, исковеркано мятущимся духом; глаза покраснели от чрезмерной работы. Складки на веках от издевки над жизненными причудами и усталость во взгляде, словно стихи были для тебя тяжелой работой. Судорожно ползут вверх брови на лысеющем лбе и романтические кудри, — единственное, что осталось от былого юношеского задора, ниспадают на уши. В твои сорок лет у тебя не остается надежды избавиться когда-либо от этой каторги. Да и ты сам едва ли согласишься на это. Ах, прекращение одних мук, рождающих готовое произведение, приводит к другим: то, что облегчало мою страсть, исчезает. Эту страсть я сравниваю с расчесываемой до крика сыпью… Я совсем не живу, я пария. Парии существуют здесь наверху, так же как они существуют внизу. Отчего это? Прежде литература не мешала нормальному образу жизни. Кем, например, был Вольтер? Не более чем одаренный умом буржуа, со всеми свойственными буржуазии добродетелями и пороками, тщеславием, алчностью, физической трусостью, с припадками моральной дерзости, со стремлением к духовному прогрессу; реакционный в политике, едва лишь монарх начинает разделять его взгляды; враждебный к служителям культа из стремления освободить от их ига народ, но из страха перед собственным лакеем желающий сохранить у народа веру в вечное наказание. Даже такая двусмысленная личность, как Руссо, этот гений, этот подстрекатель рабов, мог быть хорошо принят в старом обществе, мог любить графинь и хоть иногда чувствовать себя удачливым и безупречным. Революция сделала нас слишком свободными. В годы романтики мы вкушали циничную поэзию нашего разрыва с буржуазным миром gent épicière [2], но когда схлынул первый задор, мы остались при нашей добродетели и непонятой чувствительности. Порой мне начинает казаться, что я еще юноша, раздражительный и истасканный, лишенный возможности созреть. Стоит мне только осмелиться действовать, как я тотчас же делаюсь жертвой разочарования, так как я все еще живу бескорыстными идеалами двадцатилетнего, объединяя его необузданный, нецеленаправленный, чисто игривый образ мыслей, с пессимизмом еще не принявшего деятельного участия в жизни и не нашедшего в ней места. Удастся ли мне когда-нибудь найти его? Мое общественное положение не изменилось с момента окончания школы. Вот почему я хочу изображать мир двадцатилетних. Благожелательно настроенный юноша мне родственен; в нем всегда есть что-то роднящее его с поэзией и искусством.
И тогда я приобрету право на поэзию! И на любовь! Романтическая любовь, высмеянная из-за суровости к самому себе и изгнанная мною из «Бовари», — пусть вернется она, глубокая и непобедимая! Ах, лиризм, который я хочу позволить себе применить! Буржуа будут выведены им из себя. Я выскажу им прямо в лицо, какими они представляются наделенному идеалом юноше. Я расскажу им, как, проходя по улицам, он не может подавить в себе тошноты от пошлости лиц, глупых речей и тупой удовлетворенности, написанной на лоснящихся лбах. Правда, я добавляю: «Уверенность в своей большей ценности по сравнению с этими людьми облегчает мучительную необходимость их видеть»; ироническое убеждение в своем превосходстве над двадцатилетним делает это возможным. Мне придется позаботиться о том, чтобы не нести ответственности за каждую любовную историю. И если мне, кого все считают верховным жрецом реализма, удается пойти еще дальше в своих воззрениях, то я вложу их в уста персонажа, которому никто не поверит. Оставьте меня в покое с вашей омерзительной действительностью! Да и что, вообще говоря, представляет действительность? Один видит все черным, другой голубым, а толпа воспринимает все глупо. Ничего более естественного и более сильного, чем Микеланджело, не существует! Стремление к внешней поверхностной правде характерно для современного низменного образа мыслей; если так пойдет дальше, искусство рискует превратиться в ничто, в груду хлама, менее поэтичного, чем религия, и менее интересного, чем политика. Но в чем цель искусства; да, да, его цель? Вызвать в нас неличную экзальтацию произведениями малых форм невозможно, несмотря на всю их тщательную отработку. Без идей нет величия! Без величия нет красоты! Олимп — это недосягаемая вершина. Пирамиды останутся навсегда самыми дерзновенными памятниками.
Лучше чрезмерность, чем вкус, лучше пустыня, чем тротуар, лучше дикарь, чем парикмахер! Это облегчает задачу. В этой книге