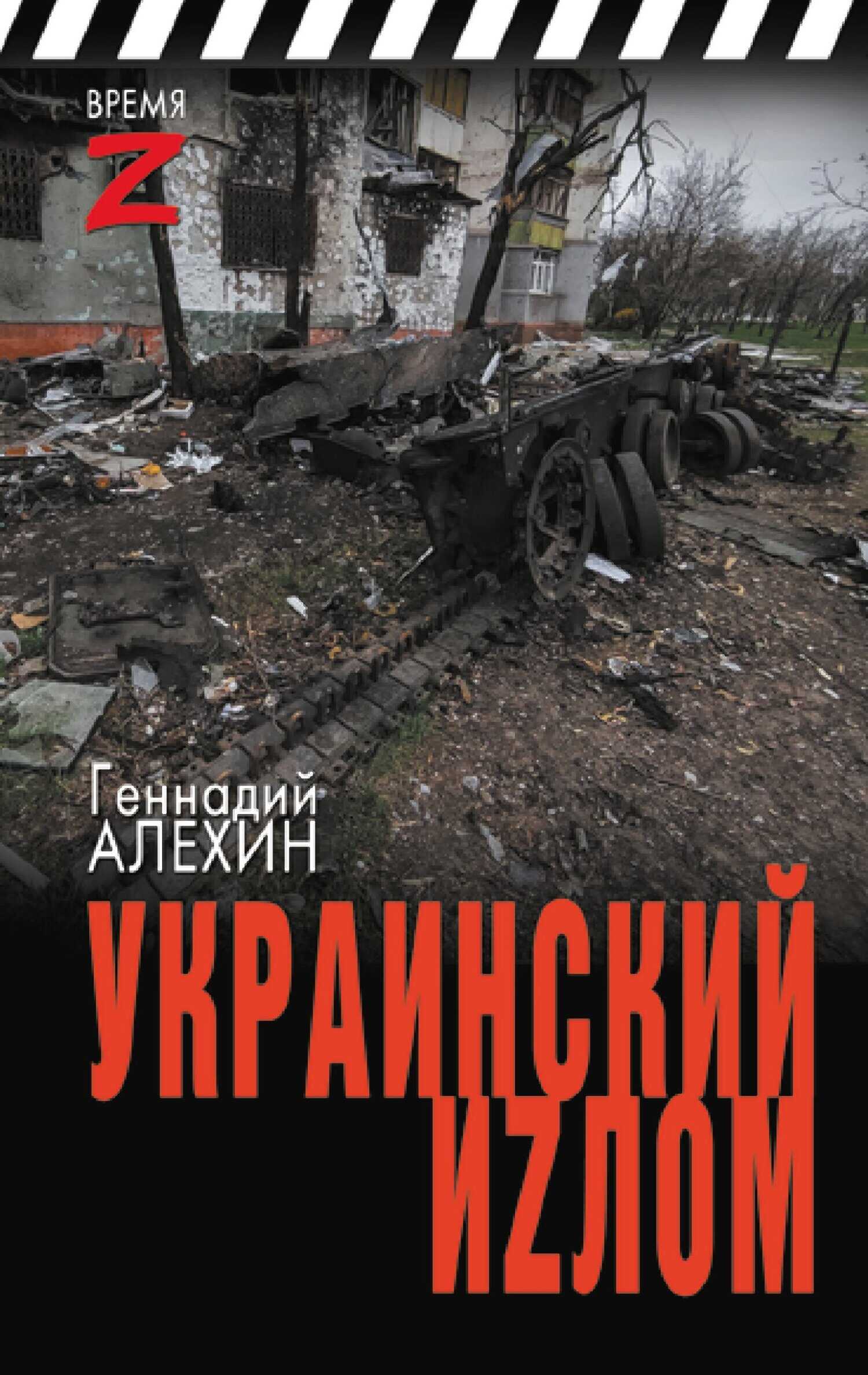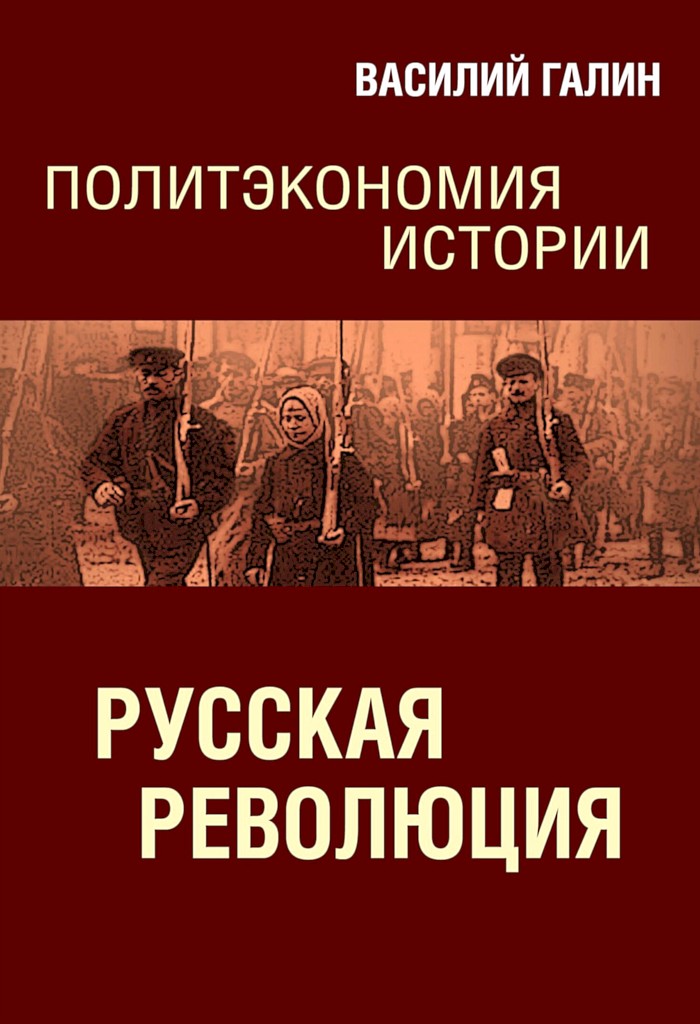один из таких полётов над Грозным со стороны русского кладбища ударил крупнокалиберный пулемёт. Огонь вели метров с двухсот. Вертолёт продырявили, как решето. Дзюба мастерски сумел посадить вертолёт. Уже на земле насчитали свыше двадцати пробоин. В салоне находился генерал Г. Трошев и группа офицеров штаба.
В другой раз Дзюба посадил машину в привычной для себя, но непривычной для других нелётной погоде. Могли просто рухнуть на склоне ущелья. К тому же попали под обледенение. Лопасти почти не работали, двигатель «чихал и захлёбывался». Но сесть удалось. И снова – фирменный знак Дзюбы с приподнятым пальцем вверх.
Журналисты, находившиеся на борту, с тех пор стали считать Александра Ивановича своим талисманом, а генерал В. Казанцев крепко пожал ему руку и по-мужски обнял.
За время службы в Чечне полковника Дзюбу не раз представляли к высокому званию Героя Российской Федерации. Однако присвоили только с четвёртой попытки. И то уже после войны. В 2002-м. За мужество и героизм, проявленные при проведении спасательной операции. На юге страны произошло сильнейшее наводнение, из зоны бедствия спешно эвакуировали жителей Карачаево-Черкесии и Ставрополья. Вертолётчики зависали над селевыми потоками, буквально вытаскивая детей и стариков из затопленных домов. Школьный лагерь «Дамхурц» мощные селевые потоки отрезали от дорог, дети и вожатые оказались в сложных условиях. Вывезти школьников автотранспортом спасатели не могли. На выручку пришёл легендарный Ми-8 и экипаж Дзюбы. Несмотря на то что положение казалось безвыходным из-за сгущавшейся темноты и того, что топливо было на пределе, Дзюба решил рискнуть, хотя по законам гражданской авиации ночью в горах летать нельзя. Но ведь он не раз рисковал подобным образом в боевой обстановке в Чечне.
Его расчёт оказался верным, а риск – оправданным. Когда вертолётчики прибыли на место, воды в лагере было по колено. Дети и вожатые сразу бросились к своим спасителям. Пассажиров оказалось слишком много, порядка двадцати пяти человек. Взлететь не получилось. А вода тем временем стремительно прибывала. Пришлось снять топливо, которого и так оставалось мизер. Наконец удалось подняться в воздух. А через каких-то полчаса лагерь затопило. Дети были спасены.
Пятнадцать лет Александр Иванович находится на пенсии. Дома не сидит. Передаёт свой опыт молодым ребятам.
Кстати, профессию военного лётчика выбрал он ещё в юные годы, когда был расцвет авиации. Тогда все мечтали быть или лётчиками, или космонавтами. Его дядя летал на кукурузнике, опрыскивал поля. Несколько раз брал племянника с собой в кабину. Даже разрешал сесть за штурвал. Дзюба один раз ощутил волшебное чувство полёта и понял, что его уже никогда не забыть…
Глава 7. Вернуть погибшим имена
Мы разговаривали с ним по телефону в феврале 2019 года. Владимир Владимирович чувствовал себя неважно: перенёс инсульт. Замедленная речь, впрочем, не мешала ему вспоминать события 25-летней давности детально и основательно. Кто бы мог подумать, что это будет наш последний разговор? Через месяц его не стало.
Ушёл из жизни легендарный Щербаков – начальник известной всему миру 124-й Центральной лаборатории медико-криминалистических исследований тел погибших военнослужащих. Через него прошли тысячи неопознанных солдат и офицеров двух чеченских войн. И большинству из них он вернул имена! Именно благодаря Владимиру Щербакову и его подчинённым удалось опознать почти 100 % военных и гражданских, предать их прах земле.
Полковник медицинской службы в отставке В. Щербаков много лет прослужил на Тихоокеанском флоте: два года – на миноносцах, затем – экспертом-криминалистом. В 1992 году перевёлся в Ростов-на-Дону, на свою малую родину. К тому времени он уже имел хороший практический опыт.
Лабораторию возглавил в начале первой чеченской кампании. Была поставлена задача – идентифицировать остатки неопознанных трупов военнослужащих. Кто-то погиб при кровавом штурме Грозного, а кто-то сгорел в танке, подорвался на мине или фугасе или разбился на земле после попадания в вертолёт ракеты. А других доставляли из обнаруженных в Чечне мест массового захоронения, в основном гражданских жителей.
Судмедэксперты начинали всю работу практически с нуля, на коленке. Но у них было огромное желание выполнить святую обязанность: вернуть имена погибших солдатским матерям и родственникам. В те первые месяцы войны (да и потом!) небольшое здание 124-й лаборатории буквально осаждали толпы людей. Тут уж хочешь не хочешь, а приходилось делать, порой через не могу. Причём без права на ошибку. Иначе как ты потом будешь смотреть в глаза убитым горем матерям, отцам, сестрам и братьям?
Давила на плечи сотрудников лаборатории и политическая составляющая. Тут уж постарались средства массовой информации, которые регулярно подбрасывали поленья в огонь. Какие только страшилки не сходили со страниц газет и экранов телевидения! И о многочисленных «эшелонах смерти», стоящих в железнодорожных тупиках, и о рефрижераторах с останками погибших, которые никто не собирается разгружать для идентификации.
Можно было поступить в подобной ситуации тупо: взять и зарыть тело с табличкой «неизвестный солдат», а можно решить эту задачу по-человечески: вернуть матерям своих сыновей и достойно похоронить их на родине.
По второму пути и пошёл Щербаков. Работал днём и ночью, часто без сна и отдыха. Разрабатывал новые методы идентификации. Среди них, к примеру, дерматоглифика признаков кровного родства по строению гребешковой кожи. Проще говоря, установление родства по признакам сходства отпечатков пальцев. На основе этого метода была разработана компьютерная программа.
Щербаков не раз рассказывал мне о том, как происходила обычная, дотошная, скрупулезная работа по опознанию. Привозят тело, вернее, его останки. Начинается обследование: какую идентификационно-значимую информацию тело (или останки) собой представляет? Есть ли ориентирующие признаки (одежда, воинский шеврон)? Есть ли на шевроне самодельные надписи, маркировка полевой формы, номер военного билета? Уже по этим признакам можно выйти на конкретного человека. Хотя и не факт! Обмундированием могли поменяться. Важны также личные вещи. Например, письма. Солдаты, как правило, хранили их в нагрудном кармане. Письма – это уже почерковый и установочный материал, там и адреса указывались. Это всё педантично учитывалось, проводилась фото– и видеофиксация.
Затем приступали к исследованию тела. Тела классифицировали по трём категориям: пригодные, условно пригодные и непригодные для опознания. Акцент делали на условно пригодных и непригодных (первую категорию тел и так смогут опознать). Большое значение играл и фактор времени. Тщательно фиксировались все признаки внешности. В обязательном порядке производили видеосъёмку в пяти ракурсах. Детально. Особыми приметами служат татуировки, рубчики, родинки. Использовалось всё: знаки отличия, документы (если они сохранились), письма, фотографии. На первом этапе удавалось идентифицировать сразу половину пострадавших. Трупы, помеченные белой биркой («белые»), отправлялись на родину.
К ещё одной трети тел, «жёлтым», применяли традиционные методики: обследовались следы прошлых травм, операций,