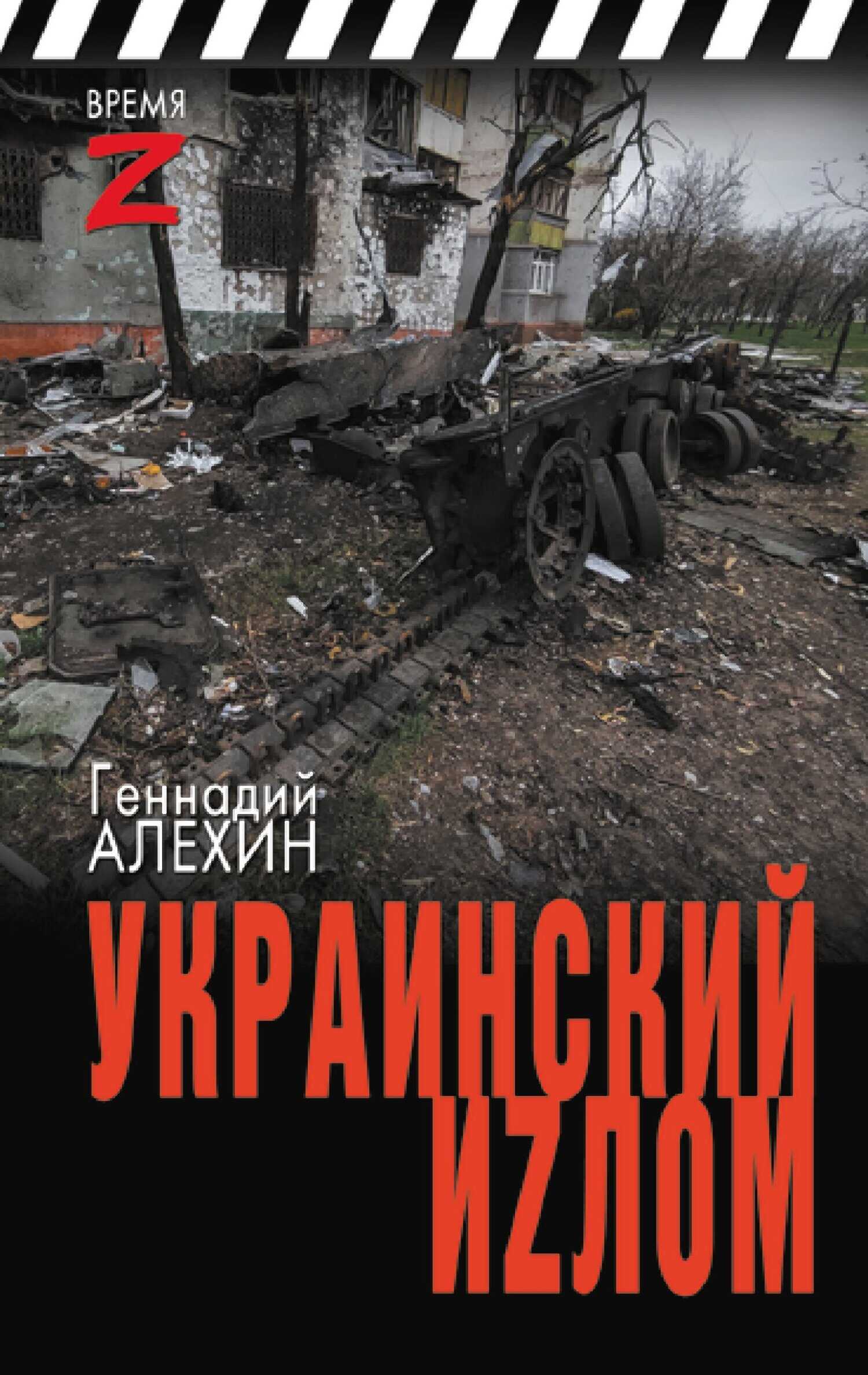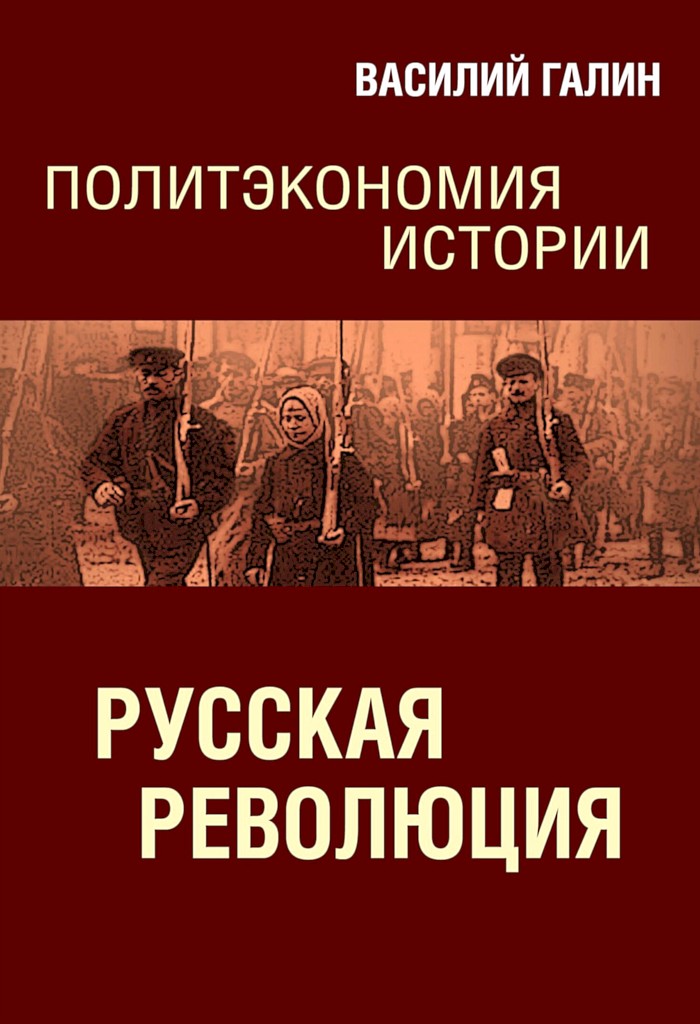планируемой реорганизации похоронить по ошибке под другими фамилиями!
– Разве сама идея о необходимости идентификации тел погибших не даёт гарантии, что все погибшие будут опознаны?
– Нужна система, которая бы работала на эту идею. А эта система слагается из нескольких составляющих: духовность, политика, законодательство и организационная структура. И последнее, но не по значению – профессионалы, специалисты (как инструмент решения задачи). Жаль, что планка духовности страны далека от уровня твёрдого принципа: „Мы не допустим, чтобы наш гражданин потерял имя после смерти“. Есть, например, законопроект медико-криминалистической регистрации и идентификации в Вооружённых силах РФ, который предусматривает создание национальной службы идентификации, как это принято в армиях цивилизованных стран. Но у нас решили: не надо никакого закона, можно ограничиться опознанием погибших, то есть достаточно показаний свидетелей о том, что, к примеру, этот человек – Иванов. И при этом никого не волнует, что в первую чеченскую войну в результате таких „опознаний“ было 7 % ошибок, во вторую – около 5 %».
Вскоре полковник Щербаков уволился в запас. Официальная версия – по достижении предельного возраста пребывания на военной службе. Но парадокс этой детективной истории в другом: через несколько лет этот пресловутый приказ № 500 отменили. Преобразованный Центр судебно-медицинских экспертиз СКВО (ныне – Южный военный округ) продолжил свою работу. Эксперты трудятся над слепками черепов и ДНК-профилями неопознанных солдат и офицеров.
Миссия остаётся прежней – вернуть погибшим имена. Цель, которой посвятил Владимир Владимирович Щербаков всю свою жизнь. Кстати, перед ним даже не извинились!
На подмосковном Ново-Богородском кладбище в местах захоронения уже установлены личности 136 военнослужащих. По желанию родственников многие из них захоронены по месту их жительства.
Работа продолжается. А значит, жива и память о настоящем профессионале, достойном офицере, герое нашего времени – Владимире Щербакове.
Глава 8. Генералы кавказской войны
Не каждому суждено стать генералом, заслужить золотистые звёзды, вышитые на погонах, и красные лампасы на брюках. Во все времена этого высшего офицерского звания удостаивались лучшие из лучших. За их плечами, как правило, лежал трудный и тернистый путь, начиная от курсанта военного училища.
Но момент истины для многих настал во время чеченских кампаний. Надо признать: не всем генералам удалось пройти этот путь до конца и в полной мере оправдать высокое доверие, огромную ответственность за судьбу своих подчинённых, достойно разделить судьбу всей армии, переживавшей тяжелейшие времена. Наконец, сохранить воинскую честь и человеческое достоинство.
Первые отказники появились ещё до выдвижения войсковых колонн в сторону Чечни. Боевой генерал, прошедший Афганистан, Б. Громов открыто выступил против ввода наших войск. Генерал Г. Кондратьев, заместитель министра обороны по чрезвычайным ситуациям, сослался на события октября 1993 года. Объяснил просто: мол, с него уже хватит, сердце может не выдержать – он больной.
Когда полным ходом шла войсковая операция и войска с нескольких сторон подошли к Грозному, резко «заболел» командующий войсками СКВО генерал А. Митюхин. Предложили возглавить группировку заместителю главнокомандующего Сухопутными войсками генералу Э. Воробьёву. Тот наотрез отказался, а причину отказа объяснил неготовностью войск к подобным военным операциям. Хотя сам на всевозможных совещаниях говорил недавно обратное.
Этих умудрённых опытом людей можно попытаться понять. Армию тогда настойчиво втягивали в грязные политические игры. Ещё не улеглись страсти вокруг событий у Белого дома, когда армейские подразделения вошли в Москву и расстреливали из танков здание Верховного Совета.
Другой вопрос, как сказался отказ генералов принять на себя ответственность (пусть в самых сложных лично для них условиях) на общее состояние частей и подразделений, их морально-психологический дух. Не лучше ли было всё-таки принять тяжёлую ношу управления частями, ведущими бои? Да, быть может, пришлось бы заплатить не только должностями. Но это был бы выбор честных и мужественных людей.
Чётко и лаконично ответил на эти вопросы генерал Г. Трошев, прошедший две чеченские кампании, в своей книге «Моя война»: «Не хотелось бы осуждать, критиковать тех или иных политиков, многозвёздных генералов за просчёты, ошибки, но некоторых оценок и характеристик не избежать. Ибо, как человек военный, не могу, например, смириться с таким явлением, когда некоторые военачальники отказывались под любым предлогом выполнять приказ. Горько признавать это, но далеко не все показали на той войне высокий профессионализм, командирские качества, не все генералы смогли (или захотели) взвалить на себя бремя ответственности. И за всё это пришлось дорого расплачиваться».
На протяжении столетий Россия, слава Богу, никогда не испытывала недостатка в истинных патриотах, в лихую годину сумевших показать свои лучшие командирские и человеческие качества. И пусть не все стали Суворовыми и Жуковыми, но даже в условиях, когда война велась не по классическим схемам, как чеченская, сумели проявить выдержку и хладнокровие, научились действовать нестандартно.
В полной мере это относится к генералам Анатолию Квашнину, Геннадию Трошеву, Виктору Казанцеву, Владимиру Булгакову, Владимиру Шаманову, Александру Отраковскому, Валерию Баранову, Владимиру Молтенскому, Константину Пуликовскому и многим-многим другим. Они не искали никаких оправданий или веских доводов, чтобы избежать участия в боевых действиях. И не пытались упрятать своих сыновей от войны. Наоборот, считали делом чести в тяжелейшие для всей страны годы быть рядом со своими подчинёнными, офицерами и солдатами воюющей группировки. Поэтому хочу уделить им внимание в книге.
Анатолий Квашнин
Объединённую группировку федеральных войск в Чеченской республике Анатолий Квашнин возглавил 20 декабря 1994 года. В самый трудный момент. Уже пошли первые потери, войска действовали шаблонно, не имея чётких и внятных задач, понимания ситуации. В тот момент, когда некоторые командиры высокого ранга запаниковали и даже отказывались выполнять приказы.
Квашнин первым делом освободился от отказников, навёл порядок и перестроил работу штаба группировки, изменил тактику ведения боевых действий. Упор сделал на манёвренные действия.
К слову сказать, до своего нового назначения генерал А. Квашнин занимал должность заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба. Пожалуй, лучше других он знал о допущенных просчётах в планировании операции, недооценки сил противника. Старался детально анализировать каждую ситуацию и выправлять положение. Требовал от командующих только правдивых докладов и полноты картины.
Один из генералов, в своих докладах регулярно сообщавший об успехах, попал «под каток» дотошности и скрупулёзности Анатолия Квашнина.
– Объясни, где твои войска и где ты сам находишься? – запрашивал по радиосвязи Квашнин.
– Там-то и там-то, – бойко рапортовал генерал, называя точку на карте, вблизи передовой.
Квашнин тут же сел в вертолёт и вылетел в названный пункт. Приземлился, а там – ни души: ни командного пункта, ни войск.
– Генерал, я нахожусь на том месте, которое ты мне указал! Немедленно прибыть ко мне, – зло выпалил он в эфир.
По