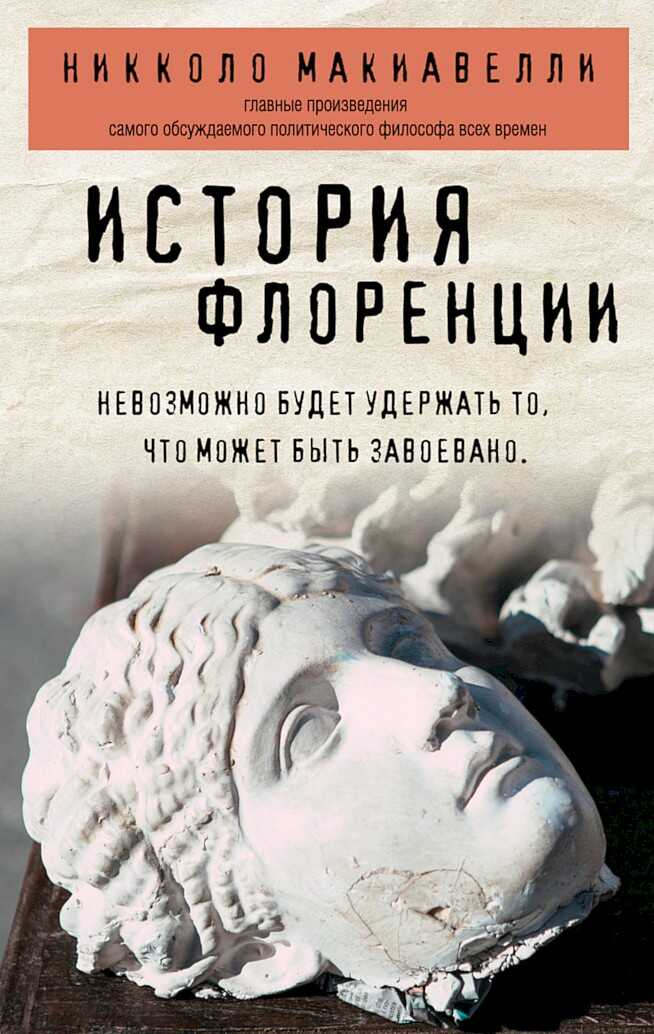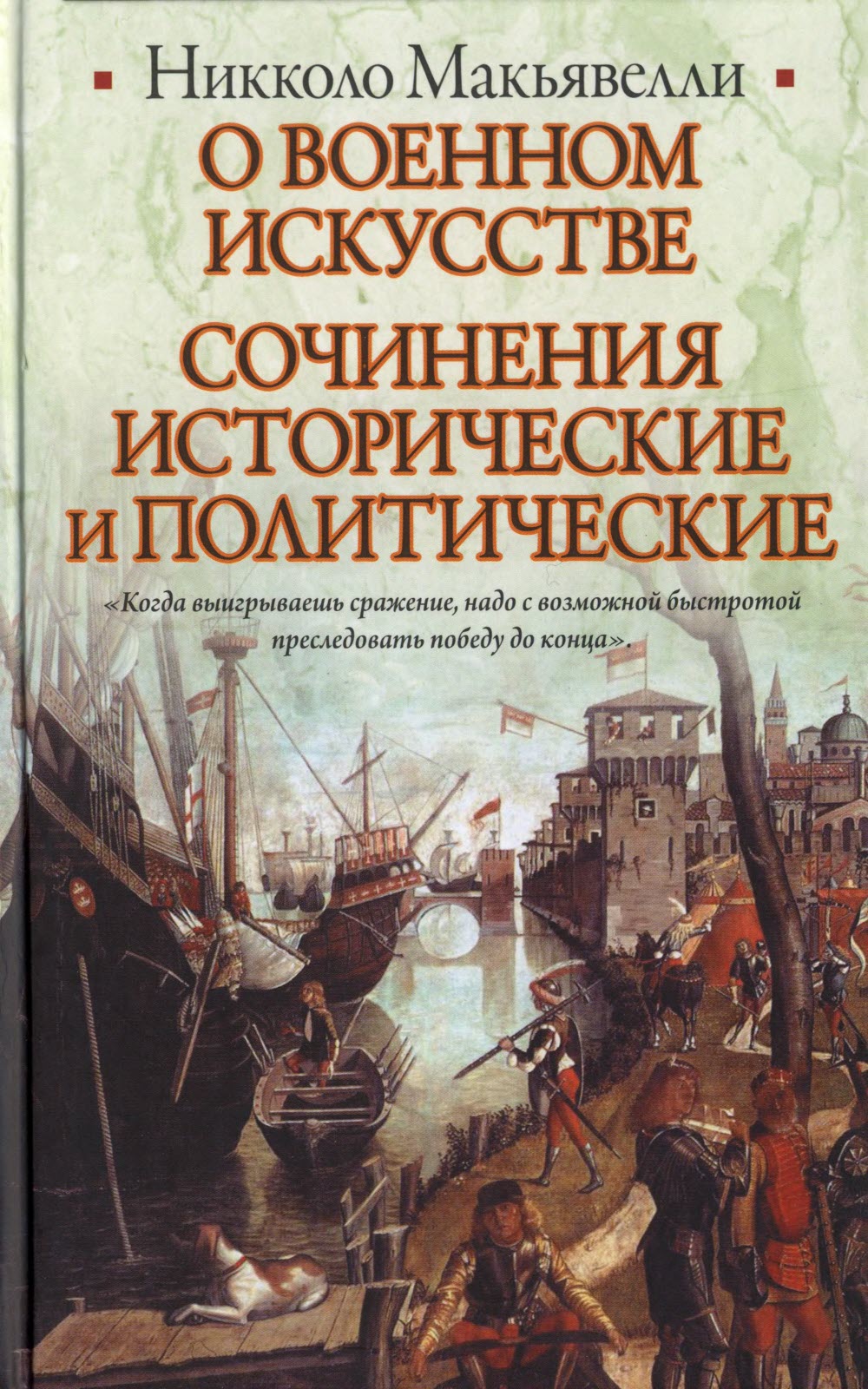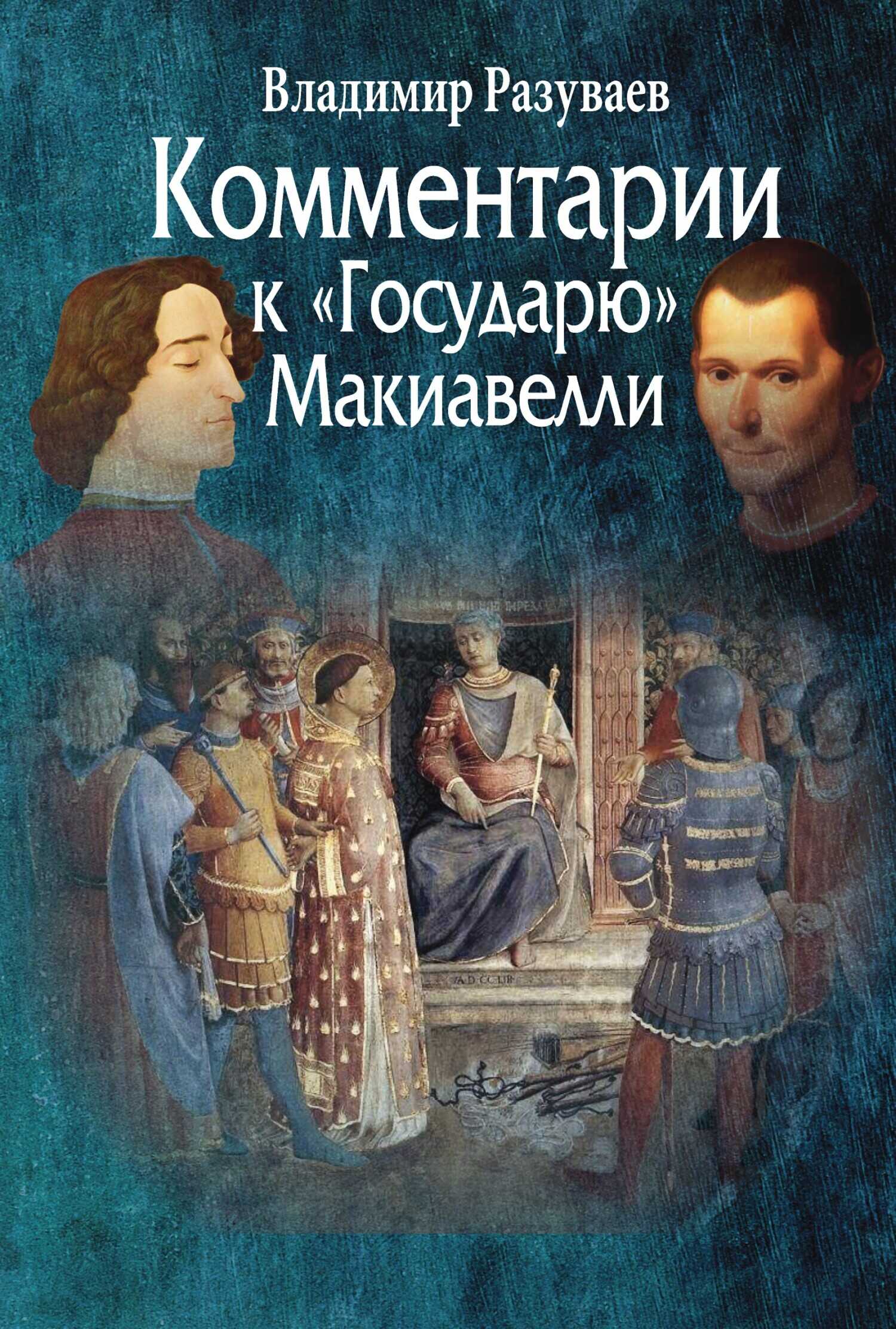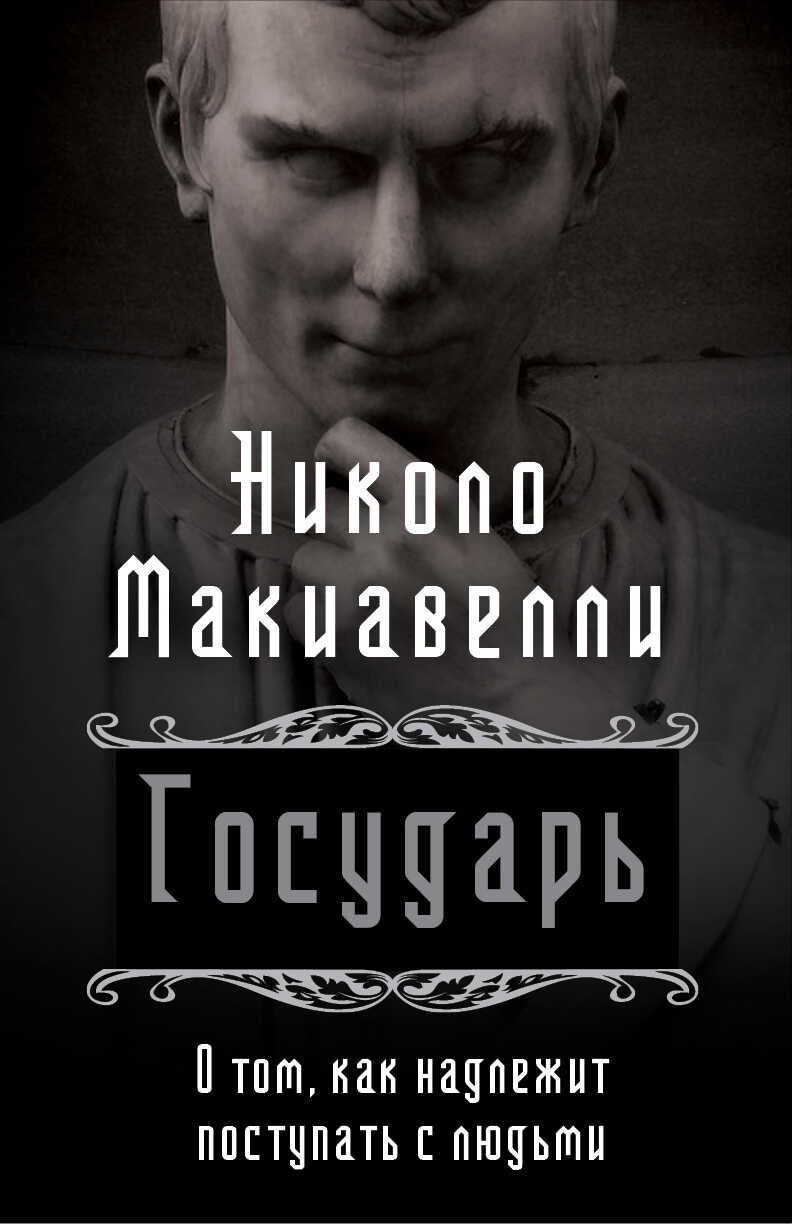к охлократии, то есть к власти толпы, а затем, пройдя полный круг, все снова возвращается к монархии. Римляне же приняли устойчивое сочетание монархии, аристократии и демократии, позволившее им превзойти Карфаген. (Чем-то эта форма правления напоминала идеальное государство, описанное в «Законах» Платона.) Похожий строй позволил Спарте на некоторое время возвыситься над другими греческими городами, однако она не смогла достичь таких же вершин, как Рим, поскольку во избежание внутренних распрей ее легендарный законодатель Ликург запретил хождение золотых и серебряных монет – и именно поэтому Спарта не смогла продолжить экспансию спустя столетия, когда вышла на международную арену.
Дионисий Галикарнасский (ок. 60–7) приехал в Рим столетием позже, в эпоху императора Августа. Как и Полибий, он впоследствии возжелал объяснить соотечественникам причины благоденствия Рима и, решив улучшить наследие предшественника, написал историю в двадцати книгах, охватывающую период от легендарного основания города (753) до 264 года до н. э., то есть до даты, с которой начинается повествование Полибия[22]. Однако Дионисий не стал приводить свои рассуждения о римских институтах в одной книге, а распространил их по всему труду, причем часто он вкладывал самый глубокий анализ в уста важных исторических деятелей – царей, сенаторов, народных трибунов и консулов, чтобы читатели могли лучше представить, что было поставлено на карту в тот или иной решающий момент истории.
Оригинальность подхода Полибия и Дионисия заключается в том, что их смешанный государственный строй – в отличие от шести основных форм правления – напоминает шестеренки сложного механизма, состоящего из множества элементов, и их функции становятся ясными только тогда, когда эти элементы, будь то отдельные государственные служащие или совещательные органы, рассматриваются в связи друг с другом, а также со всем государством, воспринятым как единое целое. Оба историка, вопреки Аристотелю, полагают, что нельзя просто перечислить множество выборных должностных лиц и объяснить их роли – необходимо показать их разнообразные и зачастую противоречивые взаимодействия. Этот главный урок, извлеченный Макиавелли из их трудов, после тщательного переосмысления дал начало современной конституционной инженерии с ее особым вниманием к многочисленным системам сдержек и противовесов, необходимым для создания и сохранения свободы. Именно благодаря этому важнейшему нововведению политические мыслители со временем создали теорию разделения исполнительной, законодательной и судебной властей, которая еще с 1787–1789 годов легла в основу конституционных законов США, а впоследствии и многих стран мира. Эта долгая история началась с теории смешанного правления Макиавелли, однако без Полибия и, прежде всего, без Дионисия не было бы и «Рассуждений» – по крайней мере, в том виде, в каком нам известен этот трактат.
То, что в «Рассуждениях» внимание сосредоточено на шестеренках, обеспечивающих работу институтов, не вызывает удивления, ведь Макиавелли посвятил всю жизнь размышлениям о том, как совместить свободу и власть. Уже в той настойчивости, с которой в «Государе» звучит призыв к установлению политических связей, просматривались истоки будущего анализа действий римских магистратов и совещательных органов. Тем не менее в комментариях к Титу Ливию прежняя точка зрения Макиавелли почему-то резко меняется. В наставлениях для Лоренцо он говорит о том, что правитель, решивший установить новый строй, должен прежде всего достичь независимости и перестроить прежние отношения с позиции силы, поставив себя в центр новой системы. «Рассуждения», напротив, предупреждают, что свобода зависит от взаимных связей, основой которых становятся государственные институты, и что только при наличии подобных уз возможно подлинное процветание республики. В той или иной форме, но для сохранения свободы все граждане (и особенно государственные служащие) обязаны подчиняться законам, а их опасные антисоциальные наклонности должны сдерживаться и находиться под постоянным контролем. Именно это становится предметом постоянного внимания Макиавелли и даже заставляет его написать следующие слова: «…учредителю республики и создателю ее законов необходимо заведомо считать всех людей злыми»[23] (Рассуждения 1.3), провокационно опровергающие основной принцип римского права, согласно которому все считаются невиновными, пока их вина не доказана. Распущенность (иными словами, отсутствие каких-либо ограничений) не менее далека от свободы, чем рабство, поэтому ей нужно противостоять любой ценой.
Надзор должностных лиц друг над другом играет для Макиавелли основополагающую роль, поскольку он, в отличие от гуманистов, не верит в то, что просвещенная педагогика, основанная на чтении античной литературы, сможет полностью освободить людей от их эгоистических желаний. Или же, по крайней мере, он отвергает мысль о том, что ответственность за всеобщую свободу может нести небольшая группа, пусть даже и получившая прекрасное образование, – ведь бесчисленные примеры прошлого показывают, что даже наставления лучших учителей вряд ли станут гарантией бескорыстной приверженности правителя общественному благу. Любая неконтролируемая власть рискует превратиться в деспотию независимо от моральных и интеллектуальных качеств тех, кто ее осуществляет. Именно здесь вступает в игру конституционная инженерия как наука о связях, которые способствуют или вредят республиканской свободе.
За несколько лет «Рассуждения» коренным образом изменили подход к обсуждению форм правления и политики в целом. Возникли новые вопросы, и анализ произведений античных авторов стал гораздо более проницательным. Даже то, что Макиавелли неизменно выступал в поддержку смешанного строя, имело непредвиденные последствия. В XV веке политические мыслители не делали особых различий между Римом, Спартой и Афинами: как правило, восторженная хвала или резкая критика зависели от того, что предпочитал тот или иной автор – республиканское правление или единовластие. Но вслед за Макиавелли (и не забудем про Полибия и Дионисия) афинскую форму правления постепенно начали считать простой, а спартанскую и древнеримскую – смешанными, вследствие чего их резко отделили друг от друга и отнесли к двум разным уровням. Безусловно, среди гуманистов не было недостатка в искренних поклонниках афинских институтов, особенно в их ранней, более олигархической конфигурации, созданной законодателем Солоном в VI веке до н. э., – ими восхищались Леонардо Бруни, Кириак Анконский, Лауро Квирини, Франческо Патрици, Филиппо Бероальдо Старший, Марио Саломонио дельи Альбертески… Однако появление «Рассуждений» привело к тому, что теоретики политики причислили хорошую демократию, или политию, как ее именовал Аристотель, к формам правления, которым не стоит подражать в любой их версии. После Макиавелли подавляющее большинство республиканских политических мыслителей склонились ко мнению, что обладателями безупречного государственного строя выступают лишь Спарта и Рим, – и можно сказать, что в этом плане «Рассуждения» способствовали всеобщему осуждению политического опыта Афин. Все изменилось только в XVIII веке, когда стал другим сам исторический контекст, после чего произошла постепенная переоценка истории и принципов афинской демократии.
По стопам Дионисия Галикарнасского
Возможно, для более ясного понимания «Рассуждений» лучше всего проследить, каким образом Макиавелли переработал уроки «Римских древностей» для построения собственной политической теории. Хотя флорентийский мыслитель не упоминает ни Полибия, ни Дионисия, он, несомненно, размышлял над трудами обоих, пусть даже именно последний оказал на