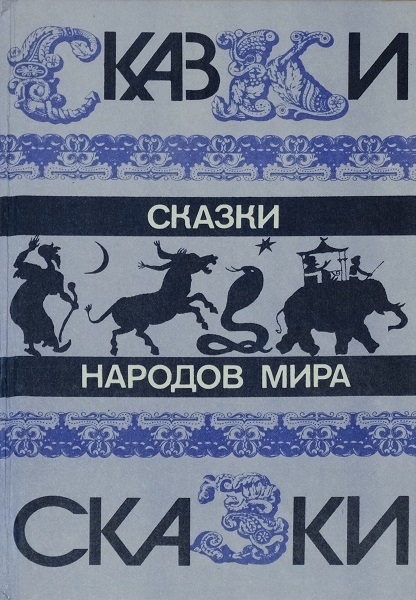которых уже тогда выделялся Нейман, ставший впоследствии одним из ведущих специалистов по расчету поршневых авиамоторов, провели всестороннее исследование. Оказалось, что в ряде случаев зарубежные конструкторы двигателей даже не догадывались о скрытых возможностях их детищ. Иначе бы без особого труда эти моторы можно было бы модернизировать, значительно повысив их мощность. Но об этом конструкторы иностранных фирм не знали, а Микулин уже знал и запомнил еще и эти очень важные ошибки, хоть и не свои, чтобы их в будущем не повторять.
В 1924 году Бриллинг неожиданно предложил ему заняться мотором небольшой мощности с воздушным охлаждением для танкетки Т-18. В течение года Микулин спроектировал двигатель и отправился в Ленинград на один из оборонных заводов. Там проект был утвержден, и мотор пошел на серию. Это была первая удача. И затем Бриллинг доверил ему самостоятельно делать маленький 60-сильный мотор «Альфа» — теперь уже Микулин не рисковал давать своим моторам инициалы А. М. — для небольшого одноместного самолета-авиетки.
«Альфа» в биографии Микулина заняла особое место. Конечно, после 300-сильного АМБС для «нетопыря» снисходить до слабенького мотора к авиетке было вовсе не интересно. Но он понимал, сейчас проходит конструкторский университет. И держался предельно скромно, учился. Учился настойчиво, терпеливо, накапливая самое драгоценное — опыт. Насчет веры в себя у Микулина не было сомнений. В себя он верил. Но теперь он понимал, что мотор — это органический сплав таланта и опыта. Иного пути нет. «Альфа» была, во-первых, спроектирована лично им. Рабочие чертежи он сам выполнил. И практически сам собирал свой мотор в сарае. От АМБС «Альфа» отличалась не только мощностью, но и тем, что она нормально работала. Кстати, при запуске «Альфы» приходилось вручную, как это было повсеместно в авиации того времени, раскручивать винт. Микулин накачал при этом такие бицепсы и плечи, что казался цирковым силачом.
После «Альфы» пришла пора «Беты» — мотора для танкетки. Мотор был сделан, но в серию не принят. Тем временем молодая советская авиапромышленность начала делать свои первые шаги.
Выступая на III съезде Советов, Фрунзе говорил:
«Еще до 1925 года мы в общей сложности закупили за границей свыше 700 самолетов. В этом году мы не покупали ни одного».
В 1925 году Поликарпов, начавший работу в авиации еще в 1916 году вместе с Сикорским, предложил организовывать специализированные самолетостроительные конструкторские бюро. И вскоре сам создал свое КБ. Одновременно с этим продолжалась работа по строительству самолетов в ЦАГИ, где работали Туполев и Архангельский.
В 1923 году возникло ОДВФ — Общество друзей Воздушного Флота. Именно оно организовало в 1925 году знаменитый перелет Москва — Пекин, в котором участвовали машины, сконструированные Н. Н. Поликарповым.
В постановлении ЦИК от 17 июня 1925 года говорилось:
«Экспедиция одержала блестящую победу над огромным расстоянием и преодолела чрезвычайные трудности пути длиною почти в 7000 км… Советская авиация и авиапромышленность дали новые доказательства своей технической мощи, советские летчики — новое подтверждение своей доблести и искусства».
Таким образом, первые успехи были налицо. Но развитие отечественного самолетостроения сдерживалось отсутствием собственных моторов. Приходилось их покупать за границей или выпускать по иностранной лицензии.
А ведь еще Жуковский назвал мотор сердцем самолета. Совершенно естественно, что при таком положении советская авиапромышленность оказывалась в зависимости от экспорта. Более того, далеко не всегда продукция западных моторостроительных фирм соответствовала требованиям сегодняшнего дня и могла удовлетворить советских инженеров. Так, в марте 1925 года Поликарпов получил заказ от авиатреста, который в то время представлял авиазаводы, на пассажирский самолет. Самолет-полутораплан с пятиместной закрытой кабиной для пассажиров был построен в рекордный срок — 30 дней. (Сразу оговоримся, что большинство самолетов того времени строились из фанеры).
Однако самолету не суждено было взлететь — мотор «майбах» оказался слишком слабым. Вот почему к этому времени на тогда еще немногих моторостроительных заводах конструкторы пыталась создать первые образцы советских авиадвигателей.
Николай Николаевич Поликарпов построил двухместный учебный биплан У-2 — тот самый легендарный «небесный тихоход», который прожил в отечественной авиации удивительно долгую жизнь. Еще до середины 50-х годов можно было его видеть на аэродромах. Правда, из уважения к замечательным заслугам конструктора в годы Великой Отечественной войны его стали называть По-2.
Так вот, для У-2 нужен был 100-сильный мотор. И Николай Романович Бриллинг решил заняться постройкой такого мотора с воздушным охлаждением.
В то время Микулин уже стал главным конструктором НАМИ по авиационным двигателям. Двигатель, названный НАМИ-100, был сконструирован и построен опять-таки очень быстро. И работал он хорошо. А в серию не пошел. Его конкурентом оказался мотор М-11, сконструированный известным впоследствии специалистом по двигателям с воздушным охлаждением Аркадием Дмитриевичем Швецовым.
В общем-то характеристики НАМИ-100 и М-11 практически были равны. Но предпочтение отдали двигателю Швецова, потому что он его сделал на заводе «Мотор», а это значило, что завод сможет быстро освоить его серийный выпуск. Микулин же из этой истории извлек важный урок: мало сделать хороший двигатель, надо еще иметь завод для его постановки на серию и проектировать двигатель именно с учетом этой постановки. Только тогда конструктору откроют «зеленую улицу».
В НАМИ у Шуры появилось много новых друзей. В частности, Костя Шарапов, которому Бриллинг поручил работу над самыми первыми советскими малолитражными автомобилями марки НАМИ-1. Кстати, когда автомобили были построены, то обкатку их поручили автору — Косте Шарапову, и, разумеется, Шуре Микулину, у которого при виде баранки руля начинался прямо-таки зуд в руках.
Не были забыты и аэросани. Теперь аэросани строили также и в ЦАГИ. А недавно организованный Осовиахим устраивал агитпробеги аэросаней. Вряд ли надо говорить, что Микулин и Архангельский были их постоянными участниками — только теперь в разных командах. На старте одного из таких агитпробегов с Микулиным случилось такое, после чего он стал брить голову.
…Как-то, зайдя к Бриллингу домой, Шура вдруг увидел его дочерей. То, что Николай Романович отличался необычайно благородной и красивой внешностью, Микулин подметил еще во время первой встречи в 1912 году. Но что у него три такие красавицы дочери, Шура не ожидал. И потребовал от Кости Шарапова, чтобы он его немедленно познакомил с ними и особенно со средней — Машей.
Примерно в это же время, причесываясь перед зеркалом, Шура с ужасом заметил, что его пепельные волосы на макушке поредели до такой степени, что сквозь них просвечивает кожа головы. Слова «лысина» Микулин боялся произнести даже мысленно. Шура бросился по аптекам. Но самые новейшие патентованные средства не помогали, а образующаяся плешь становилась мишенью для веселых ядовитых острот его знакомых. Тогда Микулин помчался в парикмахерскую. Молодой кауфер с развязными манерами, видя его