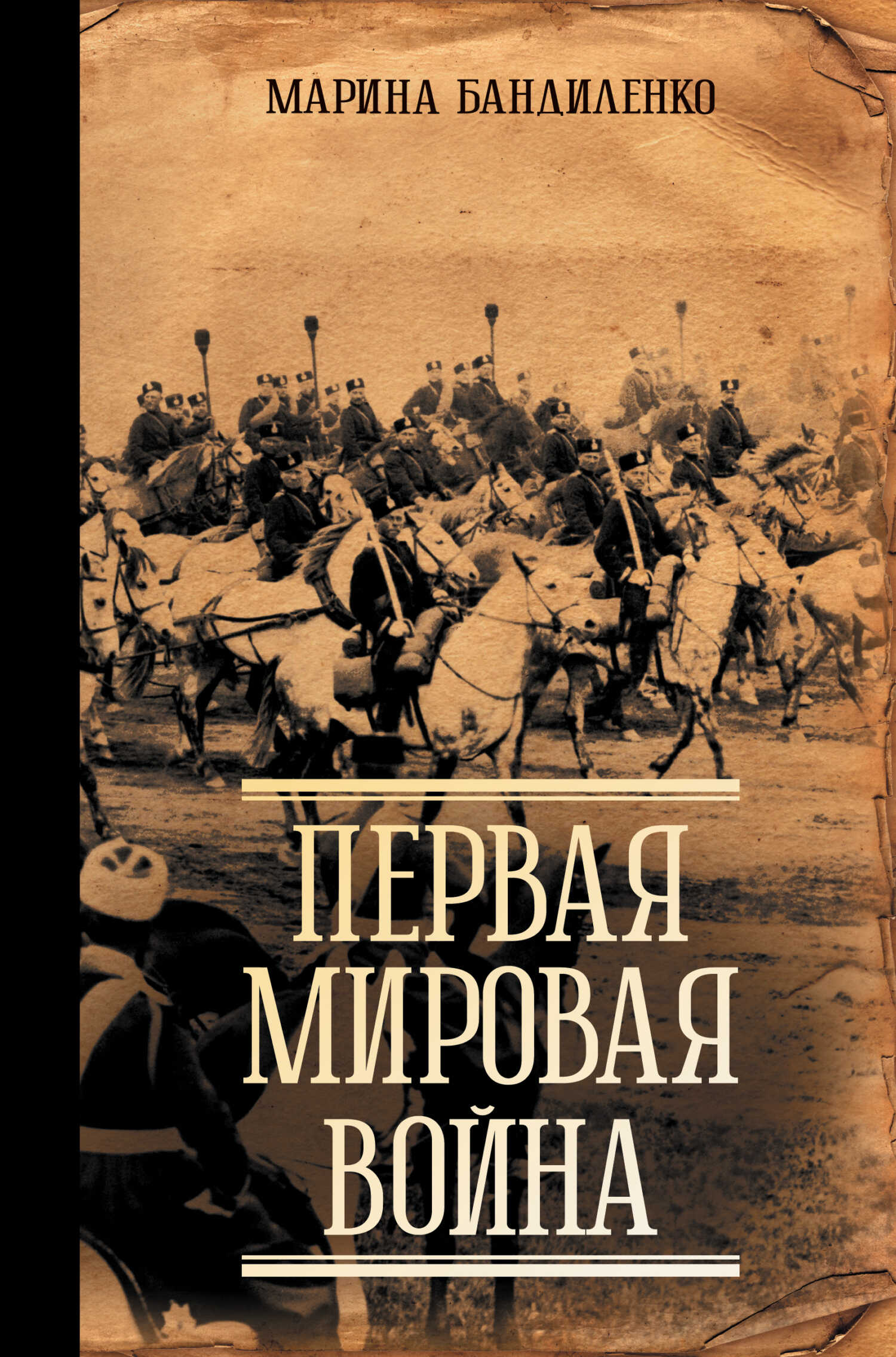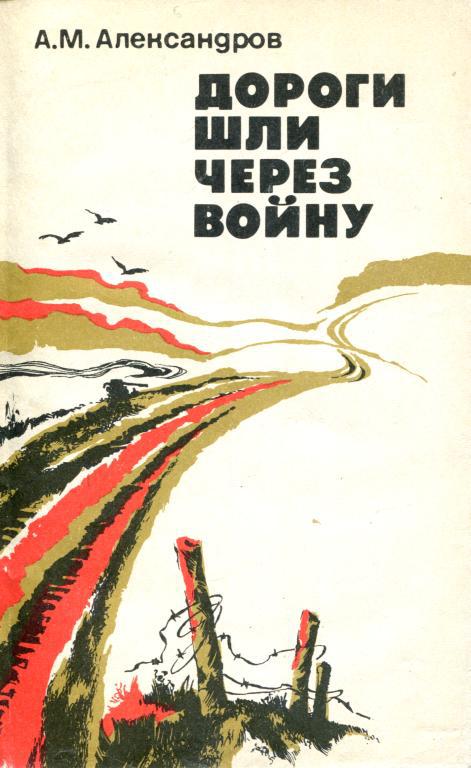Ознакомительная версия. Доступно 12 страниц из 56
вам будет хорошо».
Из пяти сыновей больше всех на отца походил старший, Мстислав-Харальд. Он был женат на шведской принцессе Христине, княжил в Новгороде, жил в мире со всеми. Так же, как отец, Мстислав очень любил охоту на крупного зверя. И в конце концов случилось то, чего больше всего боялась его мать, княгиня Гита, – Мстислава порвал медведь. Молодого князя принесли домой со вспоротым животом и выпавшими внутренностями. Увидев сына, Гита впала в состояние, которое сочли помешательством. Сутки напролет она молча и неподвижно сидела у его постели. Князь не приходил в сознание, но и не умирал. Спустя несколько дней он внезапно очнулся и рассказал о своем видении: святой целитель Пантелеймон обещал ему: «ты будешь здрав». Мстислав действительно выздоровел. А княгиня Гита стала собираться в дальнюю дорогу. Она дала обет совершить паломничество в Иерусалим.
На Русь Гита не вернется. Она умрет где-то в Палестине, и там же будет похоронена. Спустя год после ее смерти Мономах возьмет вторую жену – гречанку Ефимию, которая родит ему еще троих сыновей и трех дочерей.
А у спасенного Мстислава вскоре после чудесного исцеления родится сын, которому в крещении дадут имя Пантелеймон. Много лет спустя святой поможет князю Мстиславичу: когда он, израненный в страшной битве, будет умирать среди сотен тел, в крови и грязи, киевляне узнают своего князя по боевому шлему с изображением святого Пантелеймона.
Мономаху было уже за 50, жизнь клонилась к закату. Но подводить итоги было еще рано. Главной бедой русских земель оставалась вечная угроза половецких набегов. Мономах прекрасно знал силу половецкой конницы. Но без своих коней половцы становились беспомощны. Поразмыслив, князь разработал принципиально новую тактику войны: не ждать, пока половцы пойдут в набег, а выходить им навстречу, к их становищам, и обязательно ранней весной, когда кони ослаблены от бескормицы. Эта тактика требовала строго согласованных действий русских князей. Владимир Мономах пригласил на встречу киевского князя Святополка.
«Повесть временных лет»:
«И сел Святополк с дружиною своею, а Владимир со своею в одном шатре. И стала дружина Святополкова говорить, что "не годится ныне, весной, идти, погубим смердов и пашню их". И сказал Владимир: "А почему не подумаете о том, что вот начнет пахать смерд, и, приехав, половчанин застрелит его стрелою, а лошадь его заберет, а в село его приехав, возьмет жену его, и детей его, и все его имущество? Самого его вам не жаль ли?"».
Весной 1103 года Мономах повел войска на половцев. Смерды – крестьяне, служившие в войске пехотинцами, – были собраны по деревням, несмотря на посевную пору. Теперь задачей в том числе было как можно быстрее закончить поход, чтобы все-таки успеть засеять поля. Первая же битва на реке Сутени принесла победу русским дружинам. Натиск кочевников на Русь ослабел, но не прекратился. За несколько лет набегов и стычек с переменным успехом, – причем теперь не только половцы ходили в набеги на Русь, но и русские – в степь, – Мономах подготовил новый поход. Ему стоило больших трудов уговорить князей, многие считали это безнадежным предприятием. Тем не менее собрались дружины 10 князей – Святополка Киевского с сыном, Давида Черниговского с сыном и самого Мономаха с пятью его сыновьями.
Второй поход начался в конце февраля 1111 года, чтобы застать половцев еще на их зимовках по Северному Донцу и Дону. Впервые в дальний поход взяли священников. Еще лежал снег. Чтобы ускорить движение, пехотинцев-смердов посадили на сани. В огромном обозе везли также все припасы, доспехи и вооружение. За рекой Сулой, где снег уже сошел, сани бросили. Продвигаясь вглубь степей, русские войска взяли два степных городка, в основном состоявших из юрт и служивших зимним убежищем для кочевников, и пошли дальше, высылая далеко вперед сторо́жи – разведотряды. Перейдя Дон, войско облачилось в доспехи и приготовилось к битве. Навстречу шла несметная орда.
Все понимали: в случае неудачи живым не вернется никто. Слишком далеко ушли они от своей земли. И только Мономах был уверен, что на их стороне небесное воинство, а значит, победа. Перед сражением близ реки Салницы походные священники перед всем войском читали молитвы и пели гимны Честному Кресту и Пресвятой Богородице. Воины подпевали, как могли, глядя на горизонт, черный от нескончаемых половецких полчищ. Помолясь, прощались друг с другом: «здесь нам смерть, да станем твердо».
«Повесть временных лет»:
«И двинулись половецкие полки и полки русские, и сразились полк с полком, и, точно гром, раздался треск сразившихся рядов. И послал Господь Бог ангела в помощь русским князьям. И стали наступать Владимир с полками своими, и, видя это, обратились половцы в бегство. И падали половцы перед полком Владимировым, невидимо убиваемые ангелом, что видели многие люди».
Победа на реке Салнице была не просто военным успехом. Это было знамение, которое давало надежду на будущее. По древнерусскому летоисчислению 1111 год был 6619-м от сотворения мира, то есть уже давно шло седьмое тысячелетие, – как считалось, последнее, в которое должен наступить конец света. Нашествие половцев, неотвратимое, как божья кара, воспринималось приметой наступающей катастрофы. И вот, одержав победу настолько невероятную, что она сразу же стала легендой, Мономах отодвинул конец света. А может быть, и вовсе предотвратил его.
Половцы откочевали далеко в степь, часть ушла в Закавказье, в Грузию, подальше от русских земель и от грозного Мономаха, именем которого отныне половецкие женщины будут пугать детей.
Говорили, что Мономаха устрашились все окрестные правители, и венгры стали укреплять свои города, а греческий царь даже прислал Мономаху богатые дары, чтобы тот не шел на Царьград… На основании этих рассказов, запечатленных в летописях, много столетий спустя возникнет легенда о Мономаховых дарах – о том, что император Константин Мономах якобы передал своему внуку, киевскому князю Владимиру, коронационные регалии – золотой царский венец, пояс и бармы (ожерелье). В XVI веке венец русских царей получит название «шапка Мономаха».
Шапка Мономаха, выставленная в Оружейной палате Московского Кремля, – древнейшая и главная из царских регалий, символ русского самодержавия. Ею венчались на царство все русские цари от Ивана Грозного до Ивана V, брата и соправителя Петра Великого. Но к Владимиру Мономаху этот венец не имеет никакого отношения. Согласно наиболее распространенной версии, эта золотая круглая шапка, украшенная в технике скани, – распространенный в Центральной Азии головной убор борик, или тюбетейка, и была создана в XV веке восточными ювелирами, предположительно в Крыму, а затем подарена монгольским ханом Узбеком московскому князю Ивану Калите. Согласно другой версии, венец был куплен для княжеской казны у генуэ́зских купцов в крымской Ка́ффе. Но вот каким образом шедевр византийских ювелиров оказался у генуэзцев, неизвестно. По форме венец больше всего
Ознакомительная версия. Доступно 12 страниц из 56