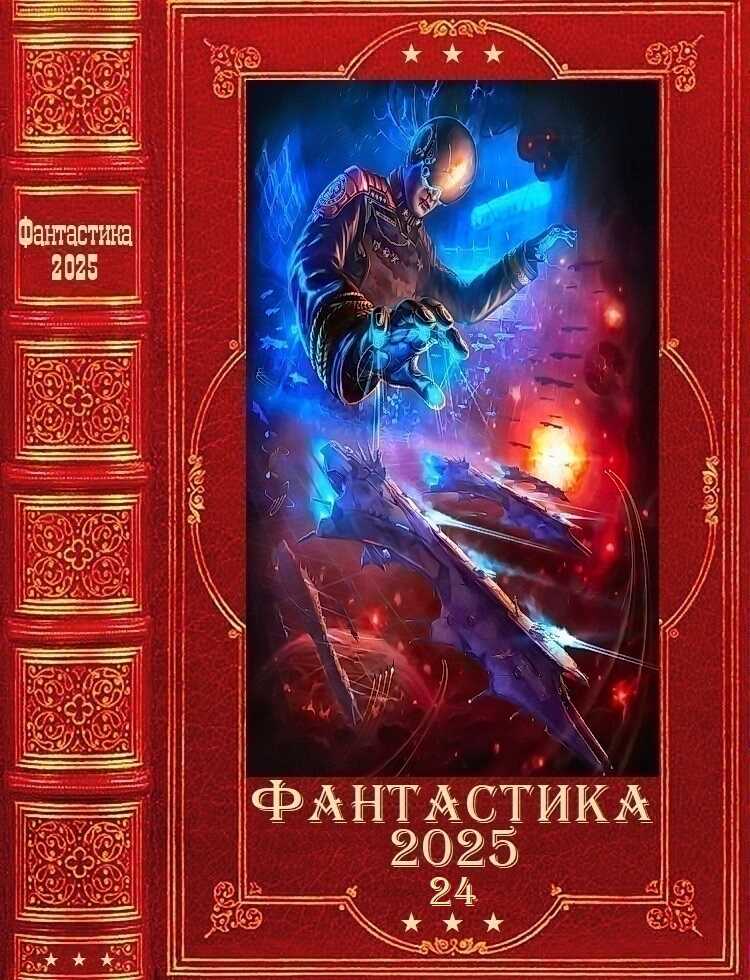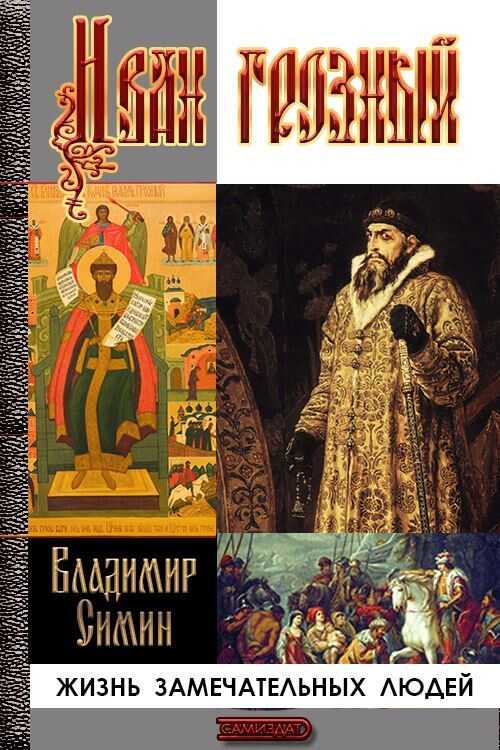была построена идущая вдоль Аму-Дарьи и через Астрахань более короткая железная дорога в центр СССР. В детстве лозунги с первых страниц газет застревают в голове автоматом. В 1960–1980-е годы славились ударные комсомольские стройки. Одна из них – железная дорога Бейнеу–Кунград. По ней я как раз и ехал мимо знакомой только по названию конфет пустыне Каракумы. Это – слева, справа у меня Кузылкумы. Если в первой – черный песок, то в Кызылкумах – красный, хотя я разницы не вижу. Пески – лишь местами, в основном каменистая почва, такыр – растрескавшаяся трещинами, словно пазлом из многоугольников, глинистая корка. Кое-где кочки сухой травы. Глаза искали известную со школьных лет верблюжью колючку. Вот и приземистое колючее деревце – саксаул, единственный вид топлива в здешних местах.
Аральское море подтачивала-подтачивала цивилизация – и вот оно почти исчезло. С детства я слышал о нем, знал о джейранах и сайгаках, об угрозе гибели. И оно случилось. Море разделилось на западный, северный Арал, и еще бог знает какой. До боли в глазах, нетерпеливо ожидая, когда серое каменистое плато упадет уступом и освободит горизонт, всматривался я на северо-восток, в заслоняющие друг друга барханы и плато. Не знал, что Арала нет. Да и в любом случае он далеко.
До чего озадачили и удивили меня стоящие вне поселений прямоугольные глинобитные заборчики с башенками по углам. Кругом – хоть шаром покати, и они вот такие аккуратные. Стоят, тесно прижавшись друг к другу, творения жителя пустыни – прямоугольники резных оградок, иные покрыты сложенным из камней восточным миникуполом. Совершенно непривычно на пустой до горизонта скучной равнине. Так это же кладбища! Последний приют жителя Востока. Встречают и небольшие группки заборчиков, и побольше. Конечно же, не отрываю глаз от лениво шагающего верблюда. Непривычно видеть старожила пустыни рядом с признаками цивилизации – емкостями для газа и нефтепродуктов, да и с телеграфными столбами. Они местами тянутся вдоль железнодорожного пути, потом куда-то убегают в сторону, а позже снова выстраиваются у рельсов.
…1944. После Арала за окном побежала бескрайняя степь. Стелился ковыль, не спеша вырастали покатые сопки. В вагоне – духота, жарко, все окна открыты. Вот и Актюбинск. Поезд, то поглощенный шлейфом паровозного дыма, то бегущий рядом с ним, уклонялся то вправо, то влево, извивался среди склонов. Это уже Мугоджары – гряды сопок, южные отроги Уральских гор. Родиной запахло! В лощинах замелькали скромными группами невысокие кривоствольные березы. Точно, скоро дом, и береза кивает нам издали.
Неожиданно стали чаще мелькать убогие сельские дома, заборы, пыльные дороги и палисадники. Застучали колеса на стрелках, скорость сбавили. Неужели большая станция? В дальней тягучей дороге это – всегда радость. «Соль-Илецк» было написано на крыше вокзала. Заскрипели тормоза, остановка. К двери вагона засеменили уже не узбечки, но все-таки южанки: в шароварах, кое-кто в халате. Каждая старается, с натугой тащит мешок. – Что даете, родимые? – загалдели сходившие со ступеней ленинградцы. Соль! Опять соль. Город издревле славится соледобычей. «Да мы-то уже набрали», – как бы извиняясь, бросают в открывшуюся дверь вагона ленинградцы. Тем не менее несколько покупателей нашлось. Всем нужна соль!
…Обратно из эвакуации летом 1944 года Морозовы ехали три недели. Въехав в город, маневрируя, часто останавливаясь, стуча колесами на стрелках, состав обогнул по кольцу железнодорожный узел, пересек Неву, и заехал по подъездной ветке на Выборгскую сторону, прямо во двор Политехнического института. Вот мы дома!
Щукарь Хвастунов
Отцом Бориса Хвастунова был Александр Георгиевич Хвастунов, до революции служивший бухгалтером в типографии издательства А.А. Суворина. А матерью – Анна Ивановна, урожденная Кустова. Через сестру Агриппину она породнилась с Морозовыми-Лобановскими.
Семья бухгалтера. И кто бы мог подумать, что сын станет моряком, к тому же подводником? Только детство его прошло в Петрограде-Ленинграде, городе на воде, и жил он тогда на Выборгской, недалеко от Невы, правда, Малой.
После семи классов парень пошел в школу-верфь «Юный водник», привлеченный, помимо увлекательной перспективы, стипендией, питанием и обмундированием курсантов. Учился на моториста: ведь на дворе гремел век моторов, автомобилей в 1930-е годы становилось все больше, советские самолеты бороздили воздушный океан, а корабли – водный. При этом ребята в школе получали и среднее образование.
Большому кораблю – большое плавание. После школы Борис идет на речной флот. Когда в 1937-м пришла повестка из военкомата, решение комиссии было однозначным: отличная профессиональная и физическая подготовка, годится для подводного флота. Как раз в это время в СССР активно сходили со стапелей подводные корабли. В воздухе пахло порохом.
Пять месяцев курсант штурмует науку подводника в подплаве (учебном отряде подводного плавания) им. Кирова, что расположился на Васильевском острове у самого залива. Уже пять лет, как в бывшей церкви была оборудована учебно-тренировочная станция с башней-бассейном высотой 21 метр, в нем курсанты отрабатывали выход из затонувшей подводной лодки. До конца 1930-х годов отряд был единственным в стране учебным заведением, готовящем моряков-подводников.
Окончил отряд – значит, парень с Выборгской и по теории успешен, и выдержал испытание барокамерой. Тут он получил назначение на недавно созданный Тихоокеанский флот (ТОФ).
На «Щуку» № 126, которая вышла с завода только что, в 1936 году.
Средняя подлодка с океанским форштевнем и обтекаемой рубкой лимузинного типа (согласно модификации) выглядела экзотично. Она при длине 58 метров и подводном водоизмещении 707 тонны могла погружаться на глубину до 90 метров, при этом рабочая глубина – 75 метров. ПЛ была рассчитана на непрерывное пребывание под водой до 10 суток, имела надводную скорость до 14 узлов. На вооружении состояли шесть торпедных аппаратов и две пушки калибра 45 мм. Оснащена двумя двигателями мощностью по 800 л.с. – на их обслуживании и предстояло служить мотористу Хвастунову. Всего экипаж насчитывал 38 человек плюс 6 человек командного состава. Лодку ввели в состав 33 дивизиона ПЛ, в 3 бригаду ПЛ ТОФ.
«Щуку» отличала простота конструкции, надежность механизмов и большой запас прочности.. Благодаря сравнительно небольшим размерам ПЛ была поворотлива и почти неуловима для охотников.
Вот Борис проник в свой пятый отсек, где ему предстоит прослужить годы. Два четырехтактных дизеля, придавленные низким сводом корпуса и шпангоутами, выглядят еще внушительнее. Выстроились в линеечку крышки восьми цилиндров. Здесь же масса механизмов, систем, газоотводных клапанов и устройств. Борису было приятно, что подлодку построили в его родном его Ленинграде.
Прибывший к месту службы молодой краснофлотец сдает зачет на знание корабля и уже в октябре выходит в море. 14 октября Щ-126 покидает главную базу ТОФ – бухту Золотой Рог, идет в залив Петра Великого