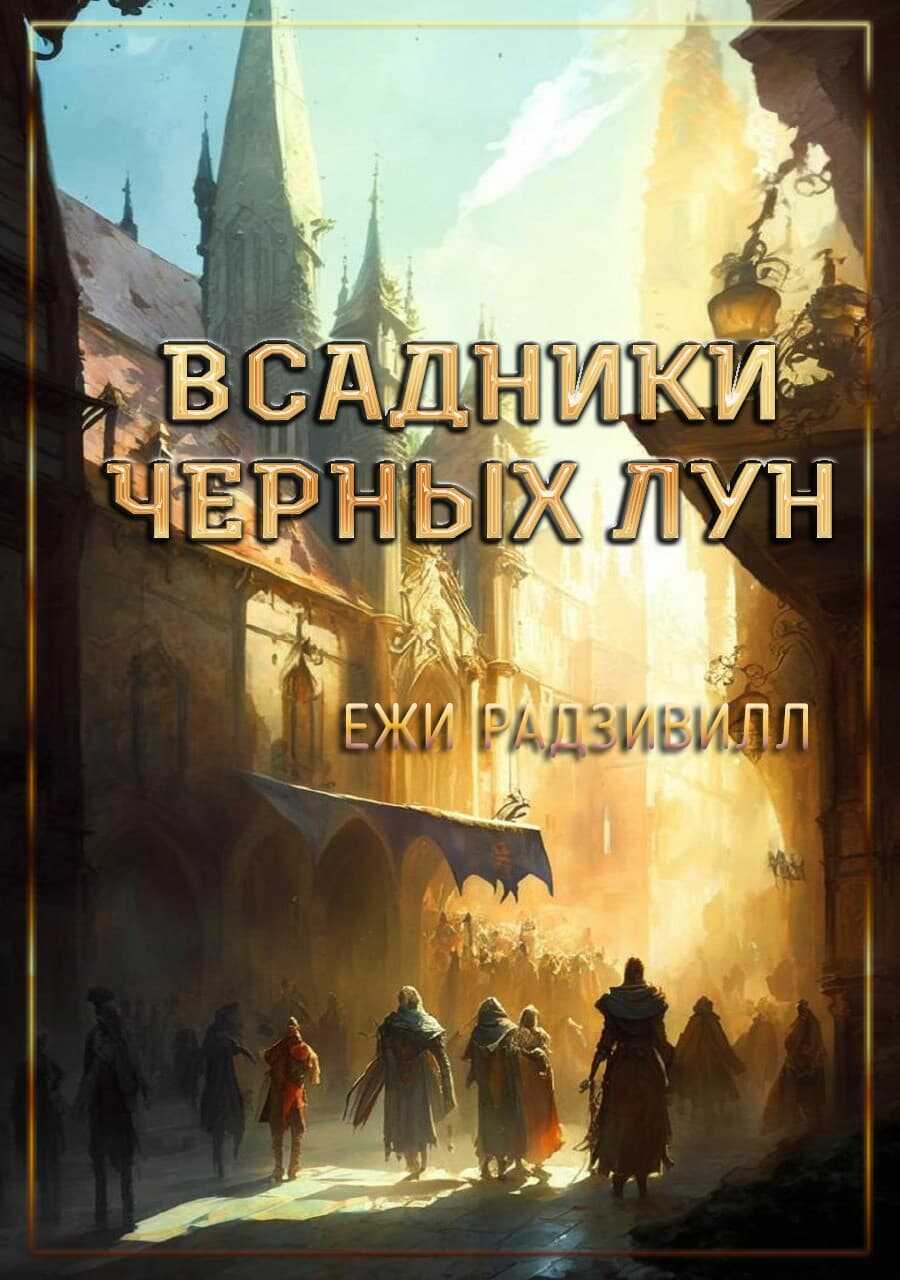я с возмущением отказался, она опубликовала разгромную статью.»
Вот тут и думай: просто-напросто отомстила или перекупили?
18.12
Когда у нас заводят речи о демографии, то прежде всего имеют в виду численность населения и не вспоминают о к а ч е с т в е , которое привносят в него многодетная семья. Ведь с ней умножается не только численность – множится привязанность к близким, к родному очагу.
В большой семье дети получают многостороннее развитие – сама жизнь их воспитывает. Так в мире было всегда – и так будет. Один же ребёнок неизбежно вырастает с отклонениями в восприятии человеческих отношений, а нередко – стопроцентным эгоистом, что становится форменным несчастьем для самих родителей. И немудрено: для него мир этот, начиная с младенчества, вращается вокруг него – единственного – и какие бы замечательные родители ни были, не в их власти изменить ситуацию. Забота, направленная на него одного, рождает в нём эгоистические наклонности – ему не с кем делиться, поскольку рядом нет существа, ему подобного.
Не то в семье, где ребёнок не один. Старший незаметно учится понимать, что не только на него одного направлены заботы родителей.
Мало того, часть доступных для него забот о младшем он берёт на себя. В большой семье каждый из детей растёт с ощущением, что он не один; каждый встраивается в отношения с другими согласно возрасту: первый, однажды став старшим, остаётся им и дальше; каждый следующий ребёнок, побыв какое-то время младшим, становится старшим по отношению к вновь родившемуся. Так действует замечательная эстафета, приносящая разнообразные полезные черты в общении и заботах.
В «Литературной газете» (№48, 2017) появилась превосходная заметка Марины Селезнёвой – матери троих детей (из Воронежа).
Упомянув о трудностях, с которыми столкнулась семья после рождения третьего ребёнка, она рассказала о главном – о жизни детей. Вот несколько цитат, говорящих о многом.
«И у младших нет возможности получать сразу всё внимание родителей, взращивая эгоизм. Им приходится учиться терпению. А это означает, что они становятся более жизнеспособны.»
«В многодетной семье однообразных дней нет. Каждый день – чтото новое.»
«Процесс обучения автоматизирован: старший просто в игре научил младшего брата держать ложку, читать, считать.»
«Мы – более выносливые, более адаптированные к жизни, более счастливые и сильные. Мы вышли из круга “одиночек” и перешли в другой – в многодетный. А там удивительным образом открылся мир совершенно других отношений.»
21.12
Заканчивается год столетия революции в России – его вполне можно было бы весь, с начала до конца, назвать революционным годом, февраль которого явился столь эйфорическим, что, например, один из великих князей после отречения царя расхаживал с красным бантом в петлице, а декабрь ознаменовался зловещим событием, угрожающим кровавой драмой по всей стране – созданием ВЧК.
Так отозвалась в империи занесённая из Европы вирусная болезнь под названием марксизм.
Отчего же не заболела ей сама Европа? Отчего в такой тяжёлой форме недуг сей проявился именно в России, и кто подготовил почву для ослабления могучего организма?
Известное объяснение причин происшедшего мощным влиянием шестидесятников кажется мне недостаточным. Сами они-то откуда взялись?
Предельно ясно одно: шатание в умах шло не из подавляющего большинства – массы крестьянского народа, но от получившего европейское образование меньшинства. Следы о том остались в нашей духовной истории.
Характерно давнее хлёсткое – не в бровь, а в глаз – высказывание не какого-нибудь там держиморды, но самого Герцена о некоторых европейских революционерах, выходцах из России: «ограниченные и печальные безумцы».
В первой половине века XIX-го, когда ещё ничего не предвещало революционных настроений в народе (декабристы не в счёт – то был заговор внутри самόй верховной власти), от зоркого глаза Гоголя не укрылись первые ростки брожения в головах разнообразного люда. Кроме открытых им известных персонажей, он мимоходом обратил внимание на любопытные человеческие типы: «Это были те беспокойностранные характеры, которые не могут переносить равнодушно не только несправедливостей, но даже и всего того, что кажется в их глазах (здесь и далее курсив мой – Б.С.) несправедливостью. Добрые поначалу, но беспорядочные сами в своих действиях, они исполнены нетерпимости к другим.» Гоголь подарил им замечательное определение: «огорчённые люди», то есть неважно даже на что именно разобиженные, поскольку огорчения их большей частью напускные, надуманные. И это в их головах варились этакие замечательные идеи, это им Гоголь дал убийственную характеристику: «Какие-то философы из гусар, да недоучившийся студент, да промотавшийся игрок затеяли какое-то филантропическое общество», которое… «было устроено с целью доставить прочное счастье всему человечеству от берегов Темзы до Камчатки.»
Тут уж сразу вспоминаются хорошо известные нам переустроители мира.
А вот же вам и чудеса, которые и сегодня, в двадцать первом веке, дарит нам несравненный Николай Васильевич: у нас и нынче этих огорчённых людей – и в политике, и в культуре – расплодилось до невозможности. От них уже тошнить начинает.
22.12
Серьёзные вызовы стоят перед Россией.
Об одном из них – самом глубоком, если не сказать самом главном, – применив гумилёвский термин, можно сказать так: под угрозой п а с с и о н а р н о с т ь русской нации.
Нечаянно вглянешься попристальнее в ход нашей истории – и придёшь в изумление. Утвердившийся в междуречьи Днепра и Волги народ в течение десятка веков чуть ли не со всех сторон света подвергался жесточайшим набегам, терпя огромный урон жизнеспособного населения, но залитая кровью нация стояла, каждый раз возрождаясь: в каждом поколении женщины успевали рожать много, рожать и поднимать здоровых и сильных защитников отечества – на этом стоял русский мир. Всё это было возможно в прежних традициях.
Теперь в стране другие дела, другие нравы, другие поколения. И другие женщины. Давно уж пелось в одной детской песенке: что же будет с нами, «если мода на детей совсем пройдёт»..
24.12
На одной из передач у Соловьёва известный в России доктор Мясников рассказал, что однажды, будучи в Париже, он побывал в гостях во французской семье. В тёплой, непринуждённой обстановке разговаривали о том, о сём, касались проблем современной жизни – и услышал брошенную кем-то фразу: «Вот нам бы такого президента – как ваш Путин.»
Посмеялся я – это что же? Всё повторяется?
В 1814 году русский царь въезжал в Париж на белом коне под ликующие крики горожан. Вот что ему довелось услышать: «Que L’Empereur est beau, comme il salue gracieusement! Il faut qu’il reste а