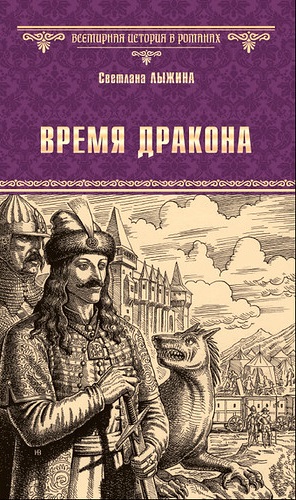Ознакомительная версия. Доступно 20 страниц из 100
ради собственного престижа. «Какие же вы, греки, глупцы! — восклицал он. — Повелитель мой, Мухаммед, не чета своему отцу, султану Мураду. И зря вы угрожаете ему. Мухаммед не мальчишка, чтобы убояться ваших угроз. А коли желаете призвать этого Венгерца [Яноша Хуньяди], так это ваше дело. Желаете отвоевать назад ваши земли? Что ж, попытайтесь! Только того и добьетесь, что потеряете даже ту малость, что вам оставлена, обещаю вам!»
Сцена, которая позднее произошла в султанском дворце между Халилом и молодым султаном, оставляла мало сомнений в завоевательных намерениях последнего. Вечерами Мехмед без устали разъезжал по улицам Адрианополя, казалось, весь во власти неуемного желания завоевывать новые земли, но, прежде чем пускаться в такое дерзкое предприятие, как осада Константинополя, он желал прояснить, каковы на этот счет настроения его подданных. Одной бессонной ночью 1452 г. султан Мехмед послал своего евнуха с повелением призвать к нему Халила-пашу. Тот, зная об алчности султана, позаботился прихватить с собой на ночную аудиенцию наполненную золотом чашу. Войдя в покои султана, Халил застал его полностью одетым и сидящим на краешке кровати. Увидев чашу с золотом, султан удивленно воскликнул: «Это еще что такое?» Великий визирь смиренно ответствовал: «Таков обычай, что призванный своим господином вельможа не должен являться пред его очи с пустыми руками». В ответ Мехмед раскрыл великому визирю Халилу свои замыслы: «Не злата мне нужно от тебя; единственное, чего желаю, так это помощи от тебя в завоевании Константинополя!» Визирь склонился в поклоне перед волей султана, и тогда Мехмед возгласил: «Уповая на милость Аллаха Всевышнего и Пророка Его, мы возьмем этот город!»
Мехмеду противостоял новый византийский император Константин XI Драгаш из династии Палеологов. Он облачился в императорский пурпур в январе 1449 г. по смерти своего брата, императора Иоанна VIII. Новый император производил внушительное впечатление: он был высок, строгие черты его лица выражали решительность, он больше славился неустрашимостью, прямотой и личной отвагой, чем приверженностью придворным ритуалам и церемониям. Предпочитал носить стальной шлем и латные доспехи поверх белых одежд, чаще всего из грубой ткани, желая подчеркнуть, что, возможно, ему предстоит стать военачальником. Он был дважды женат, но, как и его братьев, судьба обрекла Константина на бездетность. Он уже решил для себя, что не будет просить военной помощи у западных держав Европы, поскольку, в отличие от брата, не имел склонности выклянчивать ее. Будучи реалистом, император прекрасно представлял всю безнадежность положения Византии. Еще прежде он предпринимал некоторые, правда безуспешные, попытки улучшить положение — например, хотел взять в жены вдову султана Мурада II Мару, дочь сербского деспота Бранковича, но та предпочла остаться в относительно безопасных стенах сербского монастыря, куда, овдовев, удалилась. Император Константин признал провозглашенное в 1439 г. Флорентийским собором воссоединение восточного православия с Римско-католической церковью, и по его указу в соборе Святой Софии проводились сослужения православных и католических священников. Правда, горожане сторонились таких церковных служб, отказываясь стоять на них бок о бок с католиками, и в конце концов величественный храм, построенный еще императором Юстинианом, пришлось закрыть. Единственную реальную надежду на спасение византийцы связывали с Яношем Хуньяди — тот, как только убедился, что высказанные Мехмедом намерения захватить город вовсе не были пустыми угрозами, сразу отправил посольство в Константинополь. Но послы были отозваны еще до того, как турки начали осаждать Константинополь. Трансильванский воевода всегда славился своей практичностью, а теперь еще пользовался советами Влада Дракулы и потому рассудил, что лучше сосредоточить свои изрядно оскудевшие военные ресурсы на защите собственных границ и в Трансильвании, где командовал Дракула, и на южном фланге, оборона которого опиралась на неприступную Белградскую крепость, представлявшую для Хуньяди гораздо более важное стратегическое значение, чем далекая византийская столица.
Кажется, легко переоценить драматическую атмосферу всеобщего пессимизма и уныния, воцарившуюся в осажденном Константинополе, когда замыслы Мехмеда II получили наглядное подтверждение. Но именно такая гнетущая атмосфера преобладала в городе. Мало того, ее усугубляли дурные предзнаменования, упомянутые, в частности, у Халкокондила, которые еще сильнее подрывали моральный дух суеверных константинопольцев. Так, за несколько дней до 24 мая 1453 г., когда турки предприняли последний штурм, собор Святой Софии начал наливаться красными отсветами; они медленно окутывали здание от основания до вершины купола. Как рассказывали, некоторое время отсветы сохранялись, а после таинственно рассеялись. Многие подумали, что это отблески лагерных костров осадивших город турецких войск, но окрасившие собор лучи исходили из мест гораздо более отдаленных, чем турецкий лагерь. Оптимисты же утверждали, что это свет от костров великого воина Хуньяди, который спешит спасать город. Таинственные лучи напугали и самого Мехмеда II, но придворные прорицатели поспешили уверить султана, что это знак небес, возвещающий, что вскоре в городе восторжествует истинно верная религия, ислам. Мало того, случилось солнечное затмение. А ведь еще пророки древности утверждали, что город не падет, пока луна сияет на ночном небосклоне! Произошло еще одно событие, странное и не поддававшееся объяснению. Во время крестного хода во главе с императором Константином, направлявшимся в собор Святой Софии вознести молитвы о спасении города, тяжеленная икона Пресвятой Богородицы, по преданиям писанная самим святым Лукой, выпала из рук несших ее и рухнула наземь. И те никак не могли снова поднять ее. Удалось это только после истовых молитв. Но и тем дело не кончилось, ибо, пока двигалась процессия, налетела ужасная гроза с громами и молниями, хлынул проливной дождь, и в город затопило страшное наводнение. Затем на город опустился густой туман, какого в мае, как уверяли старожилы, никто никогда не видывал. Казалось, сам Господь напустил его, дабы сокрыть, что покидает византийскую столицу. А историки очень кстати припомнили старинное пророчество, гласившее, что последний император Византии будет носить то же имя, что и первый, Константин, основатель Константинополя. Это только усилило всеобщее отчаяние. На это циники отвечали словами, которые приписывают мегадуку[27] Луке Нотару, главнокомандующему византийским флотом и фактически премьер-министру: «Лучше уж видеть в Константинополе турецкий тюрбан, чем красную шапку римско-католического кардинала!» Вот какую яростную и всеобщую ненависть византийцы даже во дни невзгод питали к латинским «еретикам».
Главный вход в Белградскую крепость за подъемным мостом (не сохранился). Фото соавторов
Но не пораженческими предсказаниями звездочетов и прорицателей объяснялся пессимизм тех, кому был известен сухой статистический факт: Константинополь попросту не располагал достаточным количеством физически здоровых боеспособных мужчин, чтобы защищать городские стены с башнями, протянувшиеся на 14 миль (22,5 км) — 9 миль (ок. 14 км) со стороны моря и 5 миль (8 км) со стороны суши, — возведенные в VII веке императором Ираклием I. Общее население города сократилось с более чем миллиона человек в период расцвета Византии до каких-то
Ознакомительная версия. Доступно 20 страниц из 100