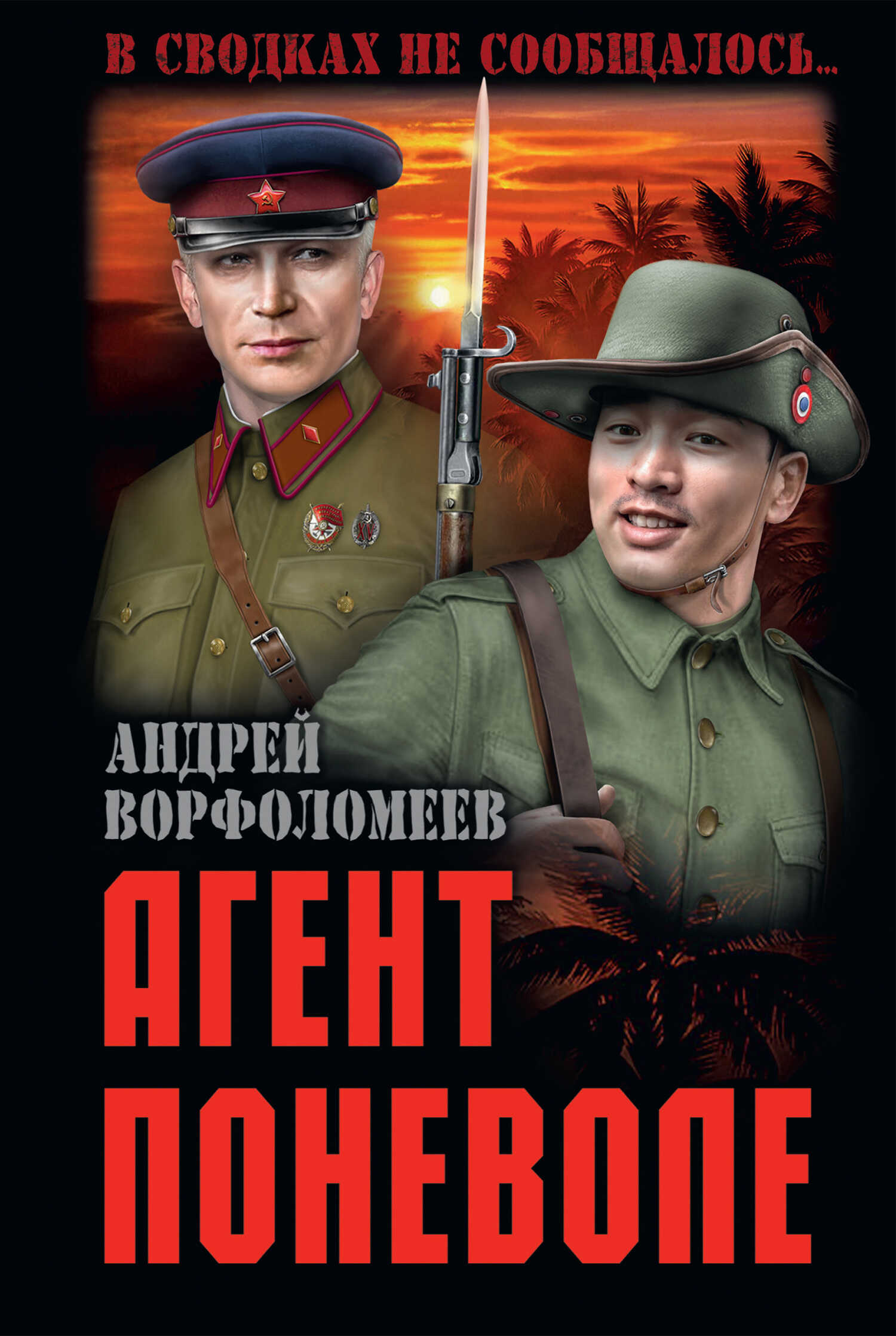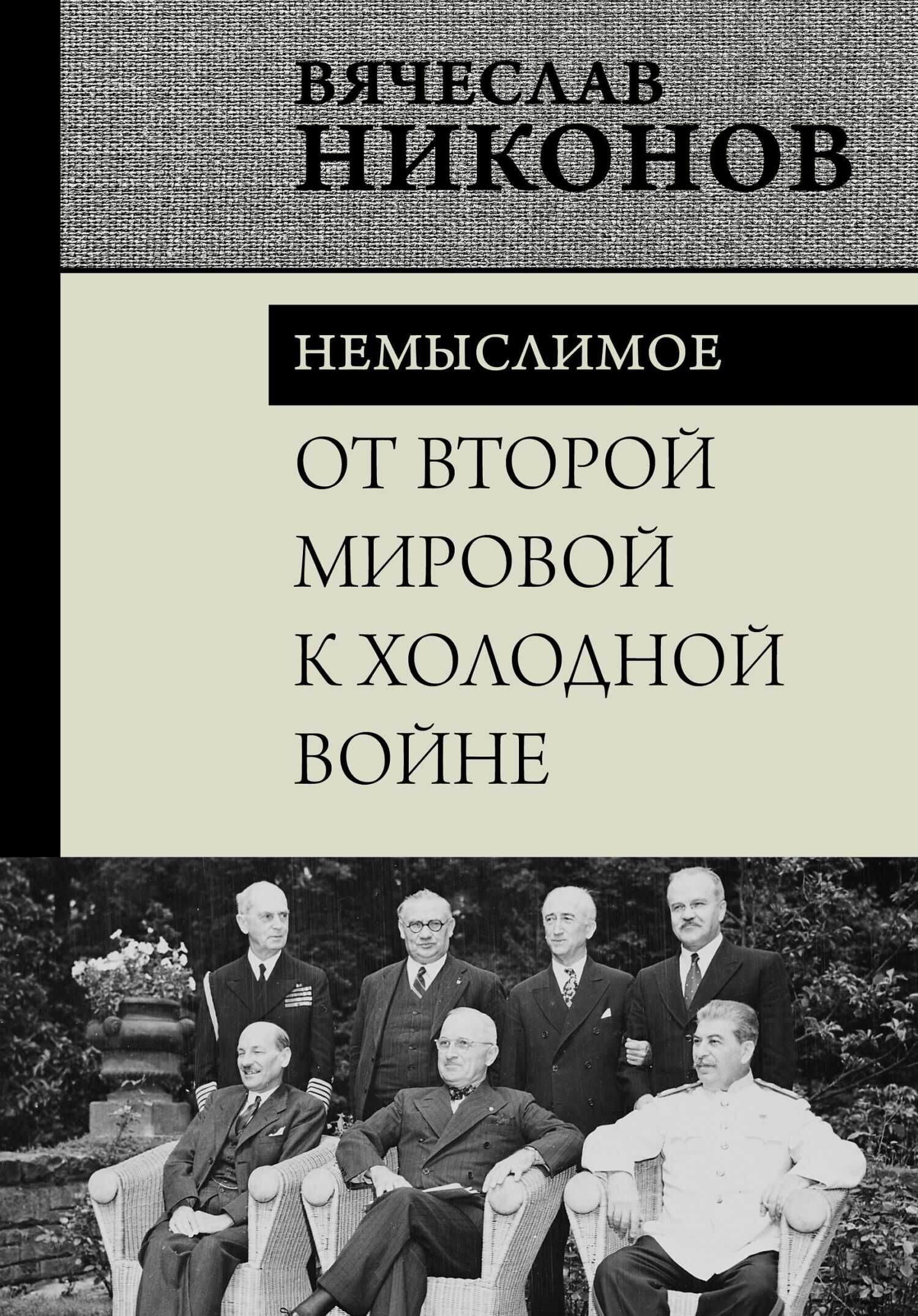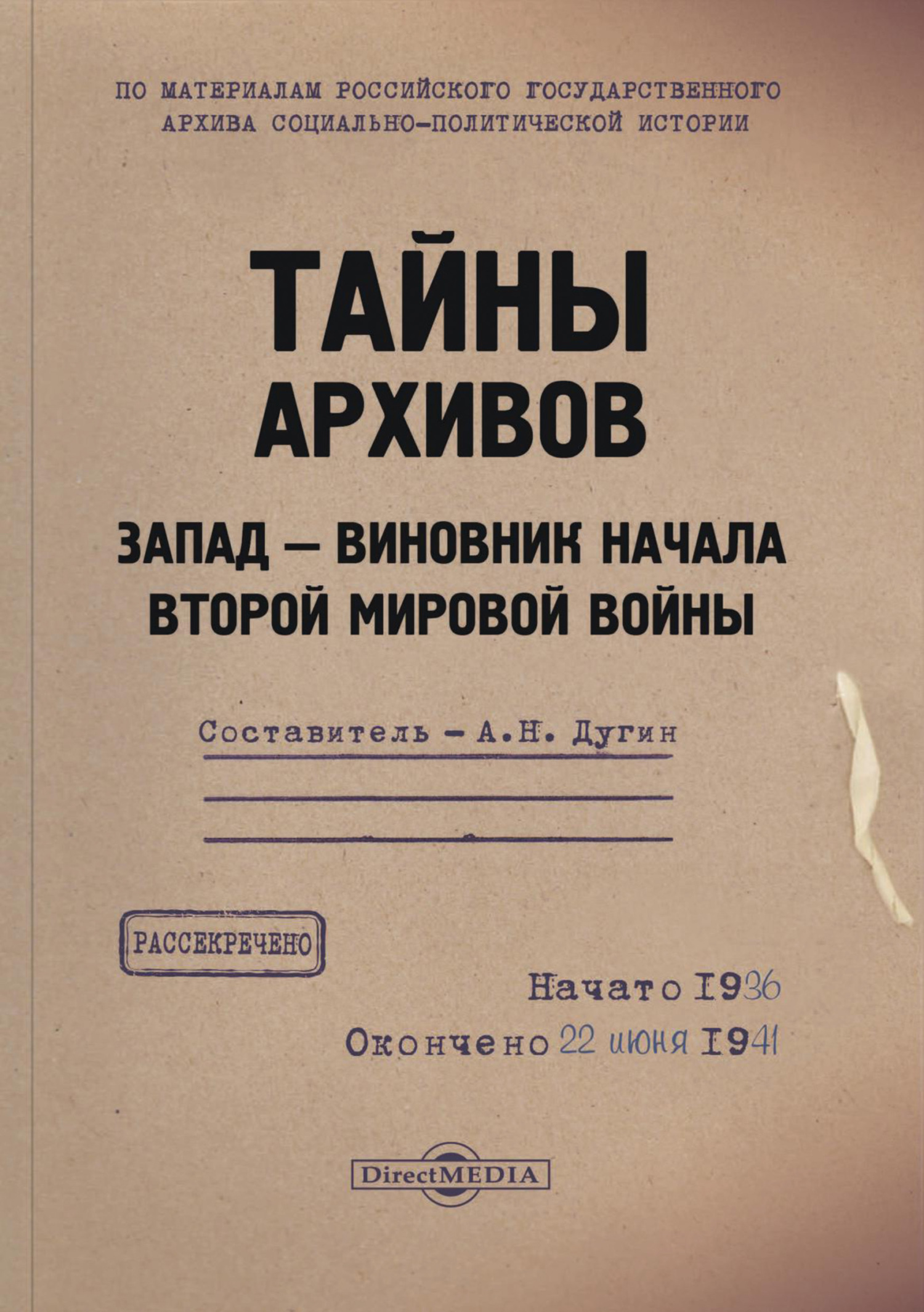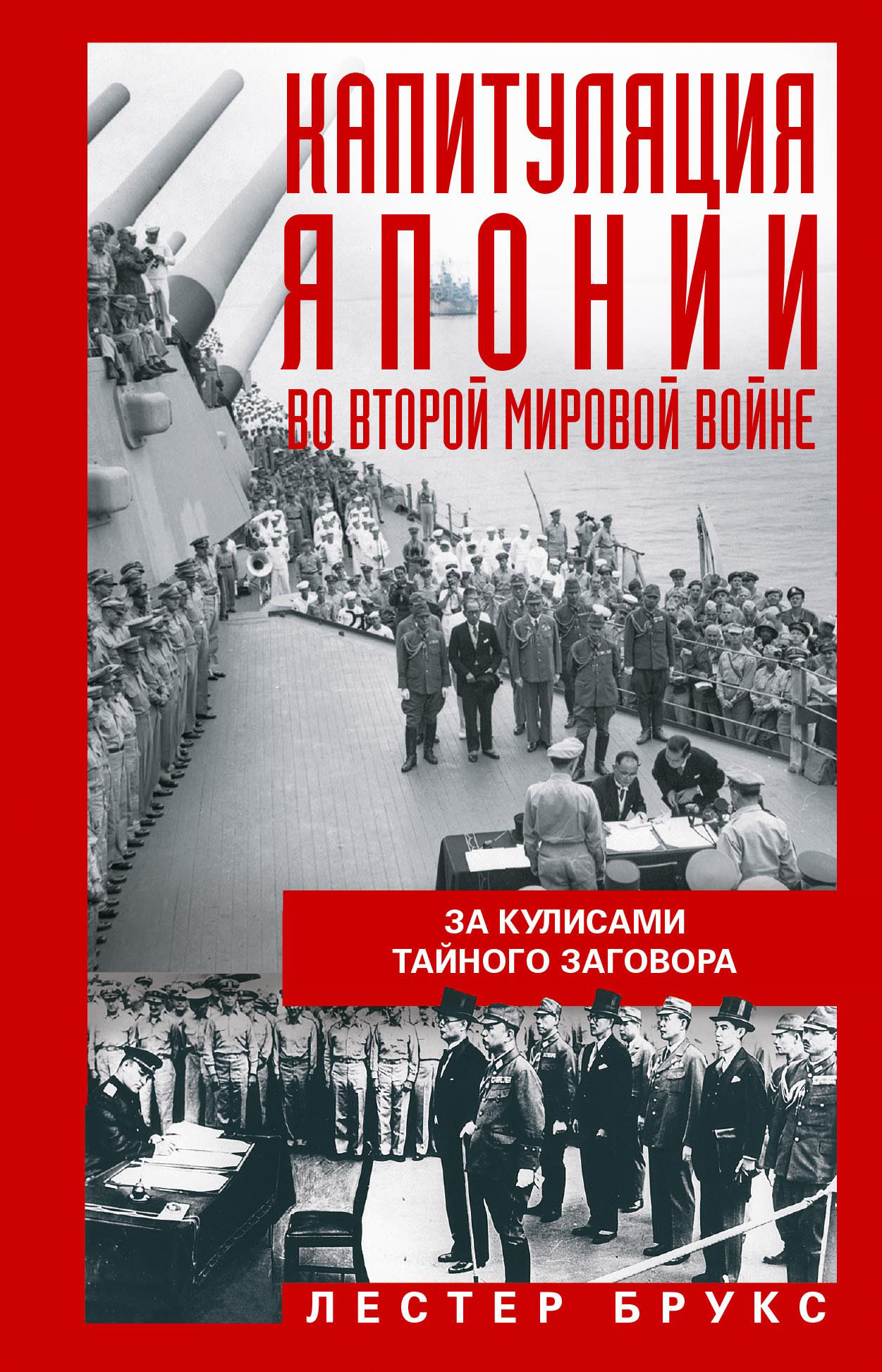брать верх, то охоту, соответственно, объявили и на подданных империи Восходящего солнца. Ситуацию облегчало ещё и то обстоятельство, что последние, потерпев ряд сокрушительных поражений и страдая от нехватки продовольствия, частенько наведывались на туземные плантации в поисках пищи. Тогда папуасы, демонстрируя показное радушие, предлагали японцам присесть к накрытому прямо на земле столу. А когда те, расслабившись, теряли бдительность, набрасывались всем скопом и забивали насмерть топорами или дубинами.
Затем Стивенсон ознакомил заинтересованно слушавших союзников с событиями, недавно происходившими в области Сепик и на северном побережье Нидерландской Новой Гвинеи. Впрочем, говорил он весьма скупо и, по большей части – полунамеками, дабы ненароком не выдать военную тайну. Так что Николаю, потом, пришлось изрядно потрудиться, чтобы докопаться до всей истины и восстановить первоначальную картину. И ничуть о том не пожалел. В самом деле, добытая информация стоила затраченных усилий. Ведь речь в ней шла о попытках австралийского командования развернуть партизанско-рейдовую войну в тылу противника. Знакомая тема, не правда ли! Особенно, для советского разведчика!
В июле 1943 года в штаб-квартире австралийской армии был разработан план операции «Mosttroops» («Много войск»). Суть её заключалась в высадке, при помощи гидросамолетов «Каталина», нескольких разведывательно-диверсионных партий в районе Желтой реки и озера Кувимас. Каждая из них снабжалась шестимесячным запасом продовольствия, персональными радиостанциями «Воки-Токи», а также самым различным вооружением, включавшим в себя винтовки, автоматы, пулеметы «Брен» и «Виккерс». Персонал, для этих партий, набирался непосредственно в Австралии и, первоначально, базировался в Таунсвилле.
До 15 июля, то есть – официальной даты начала операции «Mosttroops», на территории Новой Гвинеи, в японском тылу, уже находились порядка шести разведывательных групп. Впрочем, далеко не всегда их деятельность складывалась успешно. В том числе – и из-за прямого предательства окрестных папуасских племен. Так, 1 октября 1943 года от туземного капрала Сифлета из партии сержанта Ставермана поступило донесение о том, что пособники врага из племени Паги сообщили японскому гарнизону в Ванимо об их присутствии. И оттуда незамедлительно вышел большой карательный отряд. Сам сержант Ставерман последний раз выходил в эфир 24 сентября. Сифлет также не имел с командиром никакой связи с тех пор, когда тот, вместе с капралом Падивелом, отправился в разведывательный рейд на голландскую территорию. По слухам, циркулировавшим среди местного населения, оба были там схвачены противником и сразу казнены. И в этом случае опять не обошлось без предательства. Сифлету было приказано немедленно уходить из района Вомы и прорываться на соединение либо с партией лейтенанта Фраера, либо с партией лейтенанта Стэнли. Радиостанцию и кодовые таблицы – уничтожить.
Одному из вышеупомянутых лейтенантов – Фраеру, также довелось столкнуться с японскими агентами среди местных жителей. В конце октября, вместе с лейтенантом Эйкеном, он прибыл в селение Люми, где оставил часть собственного груза под присмотром папуаса по имени Макиан, не подозревая, что тот давно сотрудничает с оккупационными властями и даже получил от них особый значок с номером 1. Затем, оба австралийца двинулись в область, занимаемую племенем Май-май. Макиан же тотчас оповестил об их присутствии японское командование в Аитапе. Оттуда сразу были высланы два патруля. Один отправился по следам Фраера и Эйкена, а другой прибыл в Люми и захватил оставленные ими предметы снаряжения. Макиану, в награду за его услуги, достались кое-какие вещи и несколько старых банкнот в количестве шести иен.
Между тем, Фраер и Эйкен, не подозревая о нависшей над ними угрозе, прошли по запланированному маршруту и решили вернуться обратно в Люми. Узнав об этом и опасаясь за собственную жизнь, Макиан вновь поспешил в Аитапе. Но, на сей раз, его встретили там совсем неласково. Японский командующий, очевидно пребывавший в скверном расположении духа и не имевший свободных людей, предложил самому предателю захватить австралийцев и доставить их к нему, словно «свиней на шесте». После чего, те сразу будут… кастрированы! Мол, так, по словам японца, они поступают со всеми, захваченными в плен европейцами. Неизвестно, было ли это неудачной шуткой или откровенно пьяным бредом. По крайней мере, никакого официального подтверждения данной информации обнаружить не удалось. Тем не менее, недвусмысленная угроза лишения мужского достоинства произвела сильное впечатление, как на папуасов, так и на окрестных канаков. Те, по-видимому, очень напугались.
Пленить же обоих австралийцев, Макиан намеревался при помощи жителей деревни Сейнум. Те, поначалу, отказывались, но потом согласились, прельщенные возможными богатыми трофеями. Однако составленный ими нехитрый план засады полностью провалился. Лейтенант Эйкен все время держался настороже и сразу открыл огонь, застрелив двоих из нападавших туземцев. К сожалению, главный предатель не пострадал. Более того. Отрезав у убитых по пальцу, он опять отправился в Аитапе, где стал требовать компенсации за погибших товарищей! Простые нравы настоящих детей природы во всей красе! Тут уж, как говориться, не убавить, ни прибавить…
глава 20.
Избранную Витковским, для прикрытия, легенду облегчало ещё и то обстоятельство, что в своем интересе к биографии Миклухо-Маклая он был далеко не одинок. К 1944 году Австралия переживала настоящий бум, словно заново открыв для себя этого русского путешественника и ученого. Немало усилий к популяризации личности «Человека с Луны» приложил и местный журналист Сидни Гриноп, опубликовавший ряд статей, а потом и целую книгу о «Маклае». Под эту марку старался действовать и «русский этнограф» Витковский. Тем более, что в ряде случаев, его личные интересы совпадали с интересами, так сказать, служебными. К примеру, здание Биологической станции, по инициативе Миклухо-Маклая некогда построенной в сиднейской бухте Уотсон-бей, ныне использовалось австралийским военным ведомством и любое внимание к нему, особенно – со стороны иностранца, могло выглядеть крайне подозрительным. Но не в нашем случае! Ведь интересовался не абы кто, а солидный русский «ученый»!
Помимо сбора материала, для поддержания легенды, Николай старался достаточно активно публиковаться в местной прессе и даже выступать с лекциями. Если предложат, разумеется! Вот после одного из таких публичных выступлений к нему и подошел весьма необычный зритель.
– Добрый день, доктор Витковский!
Николай, уже привыкший к вниманию публики, мельком взглянул на обратившегося и, в буквальном смысле, остолбенел. Перед ним стоял самый натуральный папуас! Только одетый в европейский костюм и аккуратно подстриженный. Отсутствовали также такие привычные атрибуты новогвинейской мужской красоты, как татуировки на лице и проколотый нос.
– Да, я папуас, – явно наслаждаясь произведенным эффектом, произнес незнакомец. – Зовите меня Иеремия.
– Очень приятно. Чем могу быть полезен?
– Многим, – безмятежно констатировал Иеремия. – И, в первую очередь, тем, что вы – подданный Советского Союза.
– А разве это имеет настолько большое значение?
– Для нас – да.
– Для кого, именно?