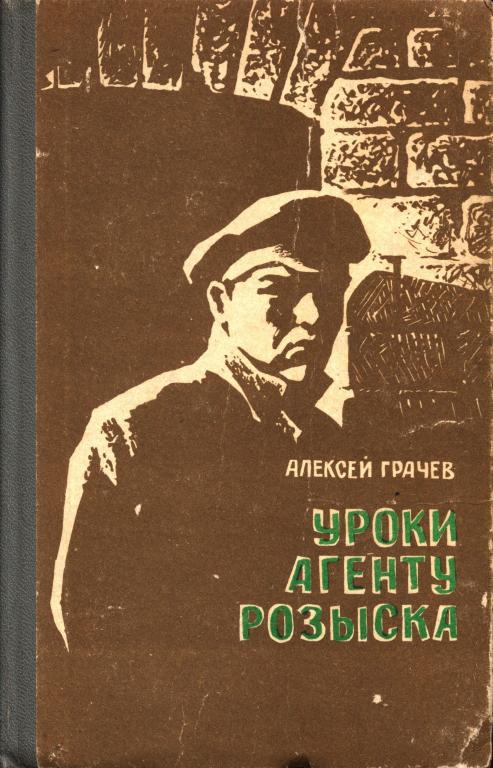у Никона Евсеевича мосласт, костист, опутан, как плетями хмеля, синими жилами.
Выкатит Трофим на пролетке, дрыгая длинными ногами, обутыми в лапти.
— Пожалте, — поклонится Никон Евсеевич. — До следующего раза милости прошу, снова пожалуйте...
Похлопает снова Куликов по плечу Никона Евсеевича, скажет, подумав:
— Вот все были бы такими сознательными в округе. Это было бы хорошо, Никон Евсеевич.
Поставит портфель между ног, ноги подожмет, воткнет колени в худую спину батрака — и покатил в волисполком, чтоб там «послушать, подумать, решить».
Не раз бывал у Сыромятова и Хоромов. Полный, грузный — дом трясется, когда он топает наверх по лестнице. Пыхтит — паровоз на путях словно бы. Голова накрыта густой без седины волосней. Покашливает в кулак, басит зычно и любит наставлять. Хлебом не корми, лишь бы показать, что он всех умнее, что он всех толковее. Поднимет палец и важно:
— В статье у товарища Луначарского что сказано: нам нужно крепить культуру на селе...
Это к примеру, конечно. Или же постукивая кулаком по столу перед окровавленным на религиозном празднике парнем:
— Твоя кровь, парень, нужна Советскому государству, как кровь защитника отечества, а ты льешь ее попусту, без всякой жалости. Может быть, ты хочешь быть донором, а? — добавит вкрадчиво. — Так я тебе дам справку тогда.
И кулаком еще раз по столу — так что побитый парень не знает, что и отвечать. Вроде в доноры советует и тут же кулаком. После, возвратившись в дом Никона Евсеевича на покой, скажет Хоромов, выпятив важно грудь:
— Я отобью у него охоту чесать кулаки о скулы. Почешет их о решетку тюрьмы — узнает каково.
Тоже, бывает, посидит за самоваром, соснет потом в одной из четырех комнат в двухэтажном доме (сияют желтизной смоленые стволы), окруженном, как часовыми, могучими липами. Комнату лучшую гостю, с видом на луга, на восход солнца. Образа быстренько завешаны, на стене — портрет Ленина в кепочке, с лукавым взглядом из-под козырька. Щурится вождь революции на Никона Сыромятова, на гостя из милиции волостной: мол, как это вы уживаетесь, братцы, здесь, под одной крышей? А еще висит на стене, возле пятнистого стекла трюмо, плакат о возрождении пролетарского воздушного флота. Спит начальник милиции, а над ним неслышно гудит огромный самолет с четырьмя моторами, шумит неслышно разрисованный устрашающе пропеллер. Подпись — красные и звонкие буквы: «Все, как один, окажем помощь Доброфлоту. Вот наш ответ Чемберлену!» Спит Хоромов и видит во сне, наверное, как вся волостная милиция тянется к нему с заемными деньгами. Выворачивают карманы, последние монеты на стол. Спит и видит, как хвалит его уезд за такой густой сбор, а потом хвалит и губерния. А там уже проглядывает и мечта — сидит он в кресле самого губернского начальника милиции и выводит преступный мир каленым железом. Не раз хвалился Валентине за стопкой вина иль кружкой пива, как будет он вытравливать мошенников и мазуриков (любимые слова начволмилиции), если его повысят в должности. В волости у него полный порядок. Разве что хулиган хулигана по уху съездит, отлупят друг друга заместо революционного суда. А больше — тишина. По такой работе давно бы ему — кресло большого начальника в республиканском даже масштабе. Из кресла, выкатив грудь, стал бы он разглядывать в упор последних в губернии мошенников и мазуриков...
Спит спокойно, доверчиво посапывает толстым картофельным носом Хоромов — образцовый волостной начальник милиции. И не слышит, как не раз подходит к его изголовью хозяин дома, как, стиснув зубы, примеривает место на широком лбу. Место под приклад, под булыжник, под шкворень от телеги... Проснувшись, видит паточное лицо хозяина; почесывая обвислую грудь, принимается хвалить, как сладко ему спалось да какие сны привиделись...
Теперь что-то не заглядывает Игнат Никифорович. Не знак ли это? Да и всё теперь, как под откос телега, кувырком. Вон «язи» на реке разобрали — не велят губить заградами из ивы рыбу, народная, дескать, стала рыба эта, пропади она пропадом. Сельисполнителем угрожать вздумал Волосников. Антон Брюквин к нему на помогу подскочил тут же, первый советчик, первый нарком хомяковский. У него одна присказка:
— В Туркестане, в гражданскую, мы давно вывели таких разорителей...
Это он был в красноармейцах в Туркестане, воевал с басмачами, с атаманом Дутовым и теперь — дело и не дело — этого Дутова под нос, как фигу, сует.
А то вот еще приехала агитка из уезда. Грузовик, крытый брезентом. Вечером из репродуктора над деревней неслись песни, про Садко, про морского царя пел певец из этой горластой железной штуковины, привешенной на столбе. Потом говорил оратор какой-то про китайские сражения, про какого-то Фына, о предателе рабочего класса Чан Кай-ши. Стал говорить о самолетах, летящих в Москву отовсюду, вроде как с юга, с востока и с севера. Это в назидание Чемберлену. Вот, мол, глава капиталистов, смотри какая воздушная армия у нас. Ну, всего не переслушаешь. Ушел домой Никон от разахавшихся восторженно мужиков и баб. В церкви бы лучше грехи отмаливали, чем под этой трубой, «поющей по воздуху», чесать затылки от умиления. А утром снова пришел к избе-читальне, опять втиснулся в толпу. И увидел себя на плакате. Страшилище с костлявыми руками. Верно — худ Никон Сыромятов. Высок, худ, с волосней, раскиданной по вискам, над лбом густая проседь. Костляв, но не такие мощи, как на картинке. И лицо как лицо у всех в деревне, чисто всегда бритое, с крупным подбородком, с тяжелым носом, под который оставляет черточку усиков. Приучился к этим усикам-черточкам, когда служил в Риге в седьмом году. Вся казарма носила эти черточки, по-польски. Ну и он, ефрейтор Сыромятов. В то время даже красив был он: рослый, быстрый, аккуратный, в мундире, — верный царский служака. В поисках революционеров, бросающих бомбы в городовых, стреляющих из «Смит-Вессонов» в приставов, не было проворнее, чем ефрейтор Сыромятов со своим отделением солдат. Выловит такого боевика, разорвавшего бомбой очередного пристава или следователя, и волоком к начальству. Вытянется в струнку, руку к козырьку... Удостоен был почестями, премиями не раз, шубой, обмундированием.
А тут мощи и подпись: «Последний мироед в Хомякове большеземельник Никон Сыромятов». Боровиков Гоша подтолкнул Никона, шепнул:
— Ванька, поди, насоветовал так расписать, Никеша.
Сделал вид Никон Евсеевич, что не обиделся совсем. Даже посмеялся, покрутил головой направо и налево.
— Напрасно меня так-то, — ответил мирно. — Я как все. Я тоже трудовое крестьянство. Если Трофима держу, так по жалости. Сам он