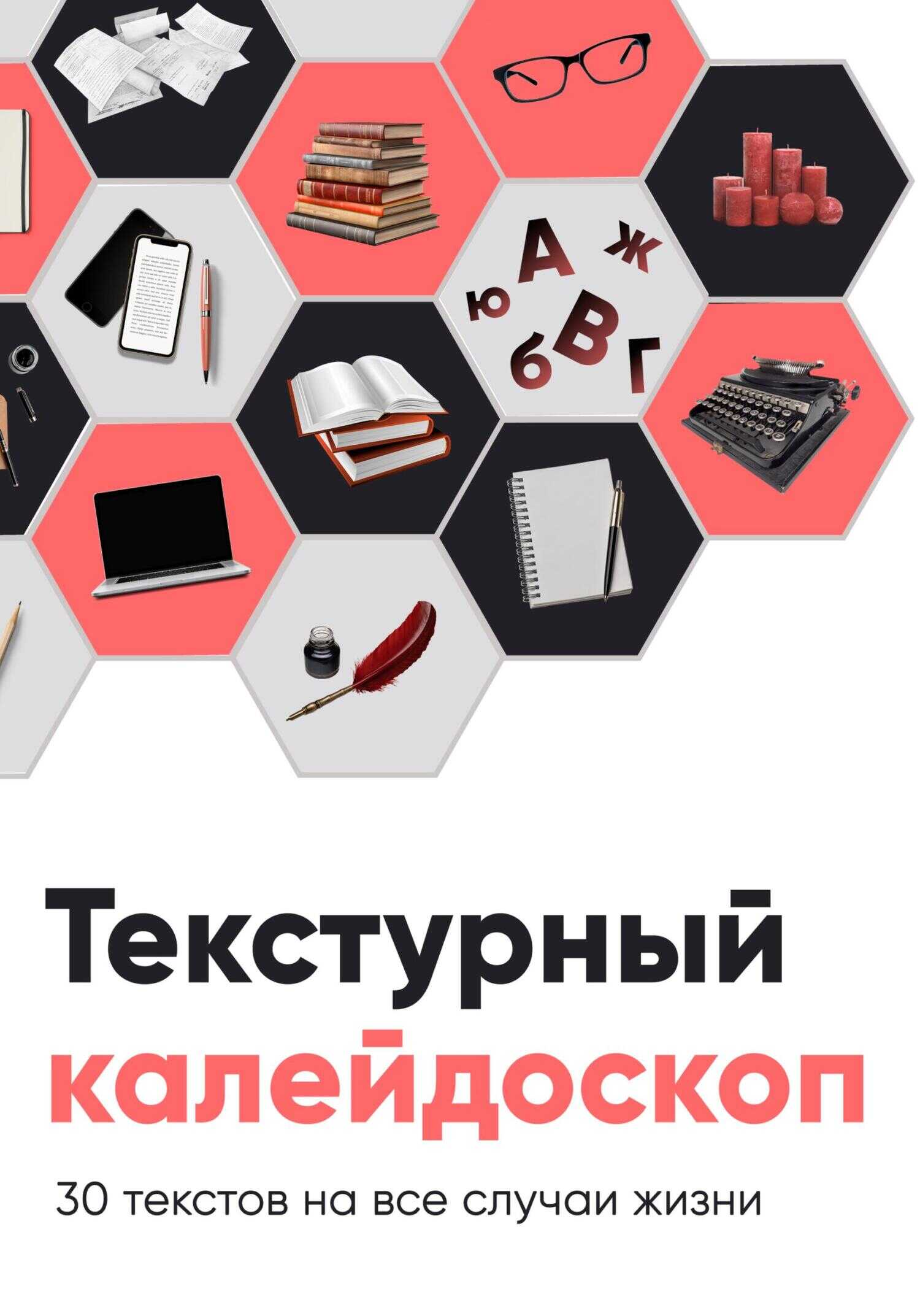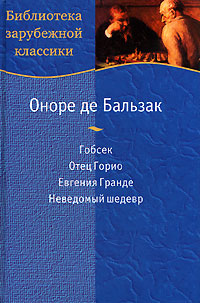того мгновения, как я пришел в сознание после контузии и увидел себя за колючей проволокой, я непрестанно думал о Лобанове. Я знаю, как поступил бы он.
Сейчас все решится. Если не промахнусь. Этот носатый, с пустыми глазами — мой. Деревянными шагами, как автомат, марширует он взад и вперед. Вот он возвращается. Осталось двадцать шагов. Я окажусь как раз возле того острого камня. В тот же миг полетят камни и в тех двух… А если не полетят? Если не осмелятся ребята? Всего несколько шагов осталось ему пройти. Беру камень. Только бы хватило сил.
— Бей их, товарищи!
Бесконечная, жуткая тишина, пока фашист стоит, покачиваясь, потом медленно валится на землю. И тогда наконец каменный грохот, как обвал. А оттуда, от поворота дороги, треск автоматов, топот сапог и лающая перекличка:
— Ауф! Ауф! Ауф!..
Вторые сутки мы идем через лес. Нас трое. Гришу, раненного в грудь, несем на шинели. Он хрипит и стонет. На ремне у меня фашистский автомат. И двадцать три патрона в обойме. Идем на восток. К своим. А вокруг лес. И снег. Безмолвие.
Когда спотыкаемся от страшной усталости, кладем Гришу на землю и разводим костер. Тихо вьется дымок. Пепельная белка проносится по веткам. Гриша следит за ней, и взгляд его проясняется.
— Март, ребята. Травой пахнет. Скоро белка порыжеет.
Виктор вынимает из-за пазухи сухарик, всовывает ему в руку:
— Обедай.
Гриша самый старый из нас, ему под тридцать. И у него уже есть дочь.
— Ребята, если я умру, не оставьте дочку. Помогите ей вырасти…
Я не могу этого слышать.
— Брось, Гришка. Скоро выйдем к своим, подлечишься…
Но Виктор, наверное, умнее меня. Или старше.
— Не мешай ему, Алексей.
— Понимаете, ребята… Мать у нее хорошая, жена моя. Очень хорошая. Но ведь она через год, через два выйдет замуж. Пойдет своя жизнь. Она красивая, жена… Дочку не оставьте.
— Будь спокоен, друг, — говорит Виктор.
— Расскажите ей обо мне. Она большая — восемь лет — все поймет, запомнит. И про белочку эту… расскажите… Она городская, не видала таких…
Тут он начинает путать, бормотать, совсем ничего нельзя разобрать. Видно, жар. Мы поднимаем его, идем дальше.
На четвертые сутки пришли в полусожженное, разграбленное село. Из уцелевшей крайней избы быстро вышла маленькая сморщенная старуха в колом стоящем кожухе и здоровенных дырявых валенках и сразу стала кричать:
— Явилися! Выставились! Вы бы еще на дорогу вылезли!
Виктор замахал на нее руками:
— Стой, стой, мать, погоди. Ты кто?
— Кто, кто… Тетей Дашей зовут.
— Товарищ у нас раненый, тетя Даша…
— Ага, а я слепая, не вижу! Нет того, чтобы в лесочке темени дождаться. Фронт же вон рядом! Немец тут скрозь ходит. Куда я с ним днем-то денуся?! Э-эх! Несите в избу, чего смотрите!
Мы внесли его, положили на широкую лавку. Не открывая глаз, он что-то невнятно бормотал. Пальцы его рук слабо шевелились. Старуха всмотрелась, поднесла к губам кружку с водой. Так же, не открывая глаз, Гриша стал пить жадно, с клекотом, содрогаясь при каждом глотке.
Потом она оглянулась на нас:
— Чего стали? Ложитесь в углу. Стемнеет, вон по тому просеку пойдете. Он длинный, не сворачивайте. Как овраг минуете, так тишком, по-за деревьями идите. Немец там близко. К утру на болото выйдете. Переднюете в лесу. А ночью прямо через то болото. Оно не топкое, пройдете. И как раз наши будут.
Я с удивлением смотрел на эту маленькую суетливую старушку.
— Ты откуда все это знаешь, мать?
Она насмешливо сощурилась:
— Первого такого героя провожаю!
— А как же Гриша?
— Ночью бабы придут, в лес отнесем. У нас там погреба накопаны. Да ложитесь вы спать, не суйтесь под ноги!..
Виктор тормошил меня. Луна светила в окно и освещала сгорбленную фигуру старушки. Она сидела возле Гриши, слегка раскачиваясь:
— Спи, сынок, спи, соколик. Набирайся силы. Глянь, скоро снег сойдет, солнышко обогреет. Соку березного напьешься. Встанешь на ноженьки. Пойдешь весело по зеленой травушке. Спи, сынок, спи…
Мы наклонились над Гришей. Он поднял веки. Долгим, серьезным взглядом посмотрел на нас. Виктор до боли сжал мне плечо и твердо сказал:
— Будь спокоен, друг. Вернемся.
Я приехал в Москву на один день. На несколько часов.
И вот эта музыка. Поразительно, что мелодия творит с человеческим сердцем!
Смотрю на Аленку. Она не отрывает глаз от дирижера, чувствует мой взгляд и тихонько кивает и улыбается.
Близится финал. Скоро, скоро все духовые, все смычковые сольются в одну мелодию, светлую и мужественную…
В это время на эстраде происходит нечто необычное. Сзади, из-за оркестра, выходит пожилой человек в черном. Это служитель. Он нагибается к одному оркестранту, к другому, взволнованно жестикулирует и шепчет. Те пожимают плечами и продолжают играть. Зачем он мешает? Что-то случилось? Наконец, слышно, как глухие удары вплетаются в могучие звуки финала. Литавры? Взрывы. Взрывы бомб. Фашистские самолеты прорвались к Москве. Воздушная тревога.
Но мелодия финала уже родилась, она сражается, пробиваясь сквозь вой бомб. Теперь музыку заглушить невозможно — она звучит в каждом сердце. Ни один человек не уходит из зала. Разражаются последние аккорды финала. Мы встаем. В громе оваций тонут и бомбежка, и вой сирен, и свистки за окнами. У эстрады Шостакович угловато кланяется, поблескивая круглыми очками.
Я оборачиваюсь к Алене:
— Время мое кончилось. Прощай.
— Я буду ждать тебя, Алеша.
В последний раз оглядываюсь. И все это: гудящий зал, вытекающая из рядов толпа в полушубках и шинелях, она, неподвижная в толпе, не замечающая толчков, с прикованным ко мне взглядом сияющих глаз, — все это навсегда остается в моем сердце.
ЛЕШИЙ
Года через три после окончания воины, только что защитив диплом, очутился я по делам службы в глухом лесном районе, километрах в пятидесяти от Брянска. Лесничий весь день таскал меня по лесным угодьям, и к вечеру я совсем выбился из сил. Стояло жаркое, сухое лето. В лесу от тяжелого запаха разогретой хвои было трудно дышать и кружилась голова. Просыпавшиеся за воротник иголки кололи спину. К лицу липла паутина. В довершение всего спутник мой оказался молчаливым, угрюмым человеком, и за день мы не перемолвились и десятком слов. Иногда лишь, ткнув пальцем в пространство, он безразлично бросал:
— Березняк был… За оврагом шел бор… От просеки ельник начинался…
Да, все это было. Сейчас от роскошного, когда-то знаменитого на всю область заповедника осталось немного. Пни. Поваленные, полусгнившие стволы, покрытые ярко-зеленым ноздреватым мхом. Кое-где одиноко высились