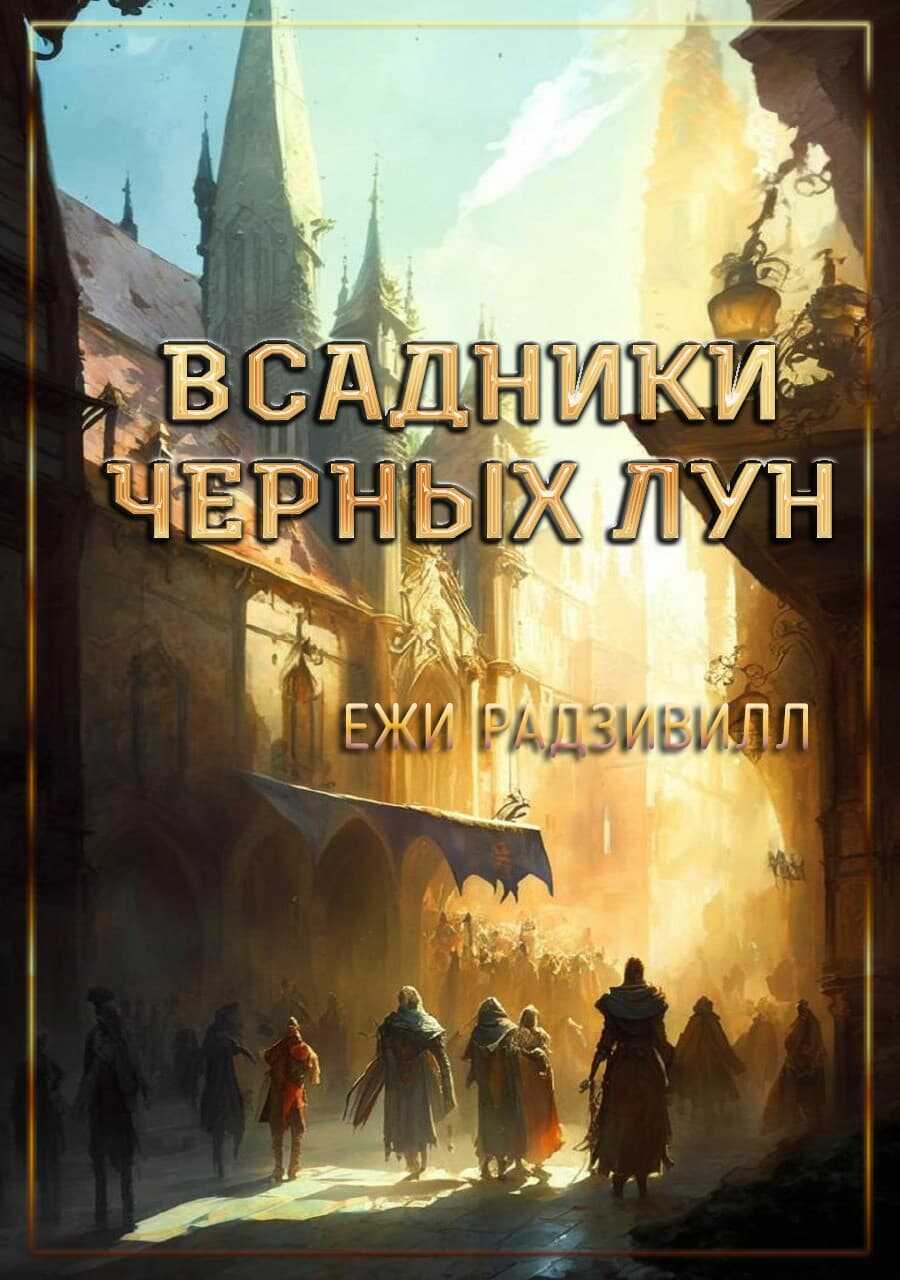говорил лучше, чем порусски (позднее лицеисты даже наградили его прозвищем: «француз»). И какая же всё-таки это нелепость, какая трагическая ирония судьбы, что именно по вине выходца из Франции Россия лишилась своего великого национального поэта…
26.12
По нашему нынешнему свободному телевидению можно не раз услышать о низких зарплатах и пенсиях, о невообразимом контрасте между богатством и бедностью в стране – но от этих, довольно частых, упоминаний бедные почему-то богаче не становятся, а богатые почему-то ничуть не беднеют, даже наоборот. К этому уже даже как-то привыкли…
Но существует ещё и другая – неочевидная – возникшая в девяностых диспропорция, о которой не говорят.
Расплодившиеся многочисленные институты и центры всевозможных исследований; немыслимое раньше, внушительное число экспертов, политологов, социологов; отягощённая регалиями, дипломами и степенями депутатская когорта Госдумы; немеренное количество чиновников разного уровня…
Донельзя разросшееся телевидение (в советское время был всего лишь один – государственный – канал с определённым количеством сотрудников; сейчас каналов стало неудобоваримое множество и во столько же раз увеличился объём персонала, явились всякого рода токшоу, не говоря уж о попсе – чудовищно расплодившемся шоубизнесе); огромное количество театров, киностудий… (Ах, если бы это можно было бы расценить как расцвет культуры!)
Всё перечисленное, всё это вместе взятое есть не что иное как внушительных размеров надстройка, тянущая на себя, расходующая немалые средства налогоплательщиков. Вот бы подсчитать, сколько же остаётся тем, кто пашет и сеет, то есть, проще говоря, остальному народу.
28.12
Память старого человека порой сродни этакому палачу, предлагающему своей жертве сладкую пилюлю воспоминания с отравой – горечью невозвратности навсегда ушедшего.
Вспомнишь себя – молодого, полного сил, лёгкого на подъём – и подивишься своей «лёгкости в мыслях необыкноенной».
Вот же он, студент второго курса ВУЗа, вот новогодние каникулы… но тут Николаев, город у моря Чёрного. Какая зима, когда нет снега? Какой Новый год? А там, на родине, на земле воронежской – морозище, а снйга – в полроста человеческого!
В студенческом общежитии собираюсь ехать домой. Тем же озабочены однокашники-украинцы. Лишь один Василий Колтыго, белорус, остаётся безучастен к сборам.
– А ты чего? Остаёшься? – спрашиваю.
– Ехать домой нет настроения.
– Да ты что! Ну… Знаешь, мои предки живут в деревне. Зима там – что надо: лес заколдованный, снегб… Я, например, по всему этому соскучился. Так это… давай – махнём со мной. В компании – всё веселее.
– Ну уж это… не знаю. Как явимся вдвоём – родители твои что скажут?
– Что ты! Они будут только рады, я знаю. С друзьями моими всегда так.
Короче, уломал я его – и всё дальше пошло, как я сказал. А в один из дней были мы званы в гости и посетили семью друга моего отца ещё с довоенных времён (тут ещё такая подробность: предполагалось, что младшая дочь вскоре станет моей невестой). Словом, всё было замечательно: погостили и ближе к ночи отправились восвояси – надо было по лесной тропе топать около получаса. Мороз усилился, снег визжал под ногами. Увлечённые разговором, мы с Васькой и не заметили, как дошли до дома. А когда, войдя с улицы, при свете стали раздеваться, все увидели, что одно ухо Василия сделалось похожим на гипсовое, то есть цвета совершенно белого… И спасено оно было лишь энергичными усилиями мамы с помощью растирания жёстким полотенцем – благо что под рукой ещё гусиный жир оказался.
И было всё это, страшно сказать, шестьдесят лет тому назад – в 1957 году.
Как ни смешно, запомнилось это главным событием наших каникул. По окончании же корабелки наш выпуск, естественно, был распределён по многим местам огромной страны, которая тогда была единой, – и след Василия затерялся. Где он теперь – по прошествии целой жизни! – да и жив ли? Увы, мне неизвестно.
30.12
В который раз, без спроса, накатывает прошлое и вспоминается он – Его Величество Тихий океан. Это необратимо – память о нём уже не отпустит до конца жизни.
В 1972 году нам предстояло работать – совместно с американцами – у берегов США, на Калифорнийском течении. От побережья Японии до Калифорнии мы шли около трёх недель – довольно утомительная вещь каждый божий день видеть с борта одно и то же: вода и вода вокруг до пустого горизонта. Превосходно об этом написал когда-то вкусивший всё это славный эстонец Юхан Смуул: «Морская тоска <…> Её серые глаза – это глаза ведьмы. Рано или поздно, год или два спустя, они покажутся снова – сперва во сне, а потом и при свете дня…»
Но тут надо сказать, что это не идёт ни в какое сравнение с чувствами мореплавателей времён географических открытий. Уж нам-то, современным водоплавающим, никоим образом не приходится своими усилиями обеспечивать движение посудины – за нас это делает надёжный, неустанный двигатель, продолжающий работать в любую, даже самую тяжкую, погоду. А во времена прежних плаваний морякам предстояла ежечасная суровая работа с громоздкими, тяжёлыми парусами с их разветвлённой и очень сложной оснасткой (может, оттого они и были крепче нас, теперешних, – им просто некогда было знаться с той морской ведьмой) – да и болтаться по волнам приходилось неизмеримо дольше. Например, на переход через Тихий – от Калифорнии до китайского берега – Лаперуз затратил 101 день! (Монтерей – Макао, 24.09.1786 – 3.01.1787) Больше трёх месяцев без перерыва – с ума сойти! Наш трёхнедельный переход со всеми современными условиями на борту – просто прогулка в сравнении всего лишь с одним, можно сказать, рядовым этапом грандиозного плавания француза.
Пришло мне всё это на ум и решил я просмотреть свои дневниковые записи того нашего рейса (за время работы мы дважды заходили в Лос-Анджелес).
Ловим на борту передачи с берега, из Лос-Анджелеса. Вдруг – на телеэкране уж очень знакомая физиономия… Евтушенко – здесь, в США! Вот уж мир тесен!
На каком-то таком шоу он прочитал стихи (одну строфу даже по-английски), потом был диалог с ведущим. Любопытно: держался как бывалый актёр и даже слегка кокетничал тем, что говорил без переводчика. Это было невероятное зрелище. Даже нам на слух было понятно, какой это был скверный английский. Было заметно, что ведущий порой не понимает Евтушенко и слышно, что чему-то смеются зрители в зале. И было досадно нам, что поэт решил обойтись без переводчика, чтобы, должно быть, «блеснуть» своим английским. (28.01.72)
Здешние жители привыкли к удобствам. Всевозможная техника настолько проникла в жизнь и быт американца, что начинает