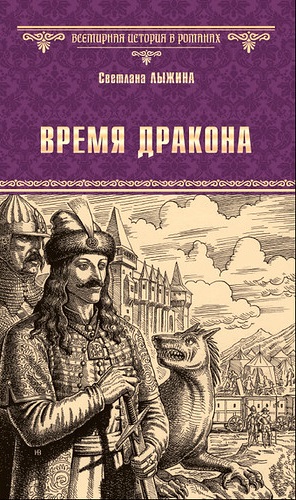замок Дракулы. Фото соавторов
Решение Дракулы восстановить этот знаменитый замок дает нам возможность перейти к обсуждению его политики в отношении разных классов, составлявших подданное ему население Валахии, — политики с позиции силы, делавшей его идеальным прообразом еще не написанного Никколо Макиавелли трактата «Государь».
В стремлении к власти Дракула считал одним из важнейших вопрос отношений с боярами. С самого основания государства власть неизменно разделялась между господарями и боярами. Учитывая недолговечность правления валашских князей (а с 1418 г. на престоле сменилось не менее 12 господарей, следовательно, на каждого приходилось не более двух лет правления), отсутствие права первородства (наследования от отца к старшему сыну) вкупе с тем фактом, что система власти бояр как правящего круга сложилась задолго до валашской государственности, чаша весов реальной политической власти сильно склонялась в сторону бояр, которые до правления Дракулы нередко покушались на власть господаря. Однако коллективное правление со всеми вытекающими последствиями, мягко говоря, не слишком отвечало властолюбивой натуре Дракулы, его высоким представлениям о роли полновластия и его по-юношески идеализированным понятиям о национальном государстве. В этом смысле Дракулу можно рассматривать как первого валашского князя, созвучного духу Ренессанса, полного решимости покончить с властью знати, централизовать управление государством и создать военную силу, верную и преданную ему одному, — в большинстве западных государств данные процессы к тому времени уже почти завершились. В решимости Дракулы серьезно окоротить боярскую монополию на власть свою роль сыграл и ряд внешнеполитических соображений. Уже сложившийся циник и реалист, Дракула склонялся к политике умиротворения османов, в правильности которой еще больше убедился после падения Константинополя весной 1453 г. К тому же в стране еще оставались приверженцы убитого им ненавистного Владислава II Данешти, засевшие в своих вотчинах, и их следовало истребить под корень, до последнего потомка мужеского пола, будь он хоть младенческого возраста.
Таким образом, сложились условия для массовой «чистки» боярских рядов, направленной против враждебных Дракуле боярских кланов. Дракуле предстояло провести ее силами немногочисленных верных сторонников, которым он, собственно, и был обязан господарским престолом. Свою политическую философию Дракула сформулировал ясно и недвусмысленно, как впоследствии это будет свойственно Людовику XIV, в письме от 1457 г. к бургомистру Брашова: «И вы должны понять: когда человек или князь силен и могуществен у себя дома, он может поступать, как угодно его воле. Но когда у него нет власти, кто-то другой, превосходящий его могуществом, возьмет над ним верх и будет поступать, как сам пожелает». Этот пассаж заключает в себе начатки всей внутриполитической программы Дракулы. И они довольно схожи с тем, что будет написано на страницах «Государя». Из этой философии легко вывести ответ на вопрос, почему в первые два года правления Дракула так старался умиротворить и венгерского короля, и османского султана. Понятно, что первым делом он желал разделаться с непокорными боярами и укрепить свое государство, чтобы потом, уже во всеоружии, противостоять своим противникам как с Востока, так и с Запада. Вероломство отдельных боярских родов проявлялось столь очевидно, что требовало немедленного противодействия. В первую очередь это относилось к боярину, звавшемуся Албу Великим, сыну Албу Таксабы (ориг. Albu Taxaba), который в свое время был одним из главных сторонников Александра Алди, противника отца Дракулы, Влада II Дракула. Молодой Албу со своей небольшой личной армией поднял бунт уже через несколько месяцев после того, как Дракула захватил престол. Но ему устроили засаду, его захватили и посадили на кол, как и всех его родичей, которых Дракула считал не менее опасными. Расправы избежал только младший брат Албу; он примкнул к ширившимся рядам недругов Дракулы, которые укрывались в Брашове. Помимо открытых мятежей, бояре имели обыкновение намеренно ослаблять центральную власть излюбленными политическими кознями: они стравливали между собой две партии претендентов на престол, представлявших две ветви правящей династии Басарабов (Данешти против Дракулешти), и заодно не забывали сеять раздоры внутри каждой партии. Понятно, что в интересах бояр было выбрать в правители самого слабого претендента, менее всего склонного вмешиваться в решения боярского совета, — отсюда и шаткость центральной власти, а также слишком частая смена господарей, о чем мы упоминали выше. Дракула проявил похвальное мужество, когда вытащил на свет божий это неприглядное положений вещей и открыто заговорил о нем с боярами, о чем повествует в своей известной поэме мейстерзингер императора Фридриха Михаэль Бехайм, а также упоминает в своих записках турецкий историк. Вот как у Бехайма описан этот эпизод:
…спросил он [Дракула] избранных господ,
кто помнит, сколько воевод
Валахией владело;
и каждый называл, как мог,
число властителей и срок
земного их удела.
…
Один сказал, десятка три,
другой, что два десятка.
Не находя ответа,
свел их число юнец к семи
перед знатнейшими людьми;
была их песня спета.
Рек Дракул: «А по чьей вине
сменилось в бедной сей стране
властителей так много,
как это было до сих пор?
За этот гибельный позор
судить вас нужно строго»[29].
Имея множество свидетельств лживости и злокозненности бояр, Дракула решил, что пришло время показательно покарать их. Не менее его к этому побуждали кошмарные подробности убийства его брата Мирчи, о которых ему стало известно. Отмщение за это злодеяние, вероятно, послужило еще одним мотивом для массовой расправы с боярами через посажение на кол прямо во дворе перед дворцом; и эта казнь, в свою очередь, имела непосредственную связь с восстановлением из руин «орлиного гнезда», которое облюбовал себе Дракула, — той заброшенной цитадели на скале над рекой Арджеш. Самые ранние румынские летописи, в которых упоминается это событие, относятся к XVII в. В них говорится, что все произошло весной 1457 г. во время пасхальных празднеств, на которые бояре собрались в господарский дворец. «Он [Дракула] прознал, что бояре Тырговиште закопали живьем одного из его братьев. Дабы выяснить всю правду, он разыскал могилу брата и обнаружил, что его тело лежит ничком. В пасхальный день, когда все жители [Тырговиште] веселились, а молодежь танцевала, он окружил их… и вместе с их женами и детьми препроводил их всех прямо в праздничных одеждах, в которые они вырядились на Пасху, в Поенари [отсылка к замку Дракулы], где их заставили трудиться, пока их одежды не изорвались в лохмотья и они не остались нагими». На самом деле в этом эпизоде, который также описан у греческого историка Халкокондила и прочно закрепился в национальном фольклоре, речь идет о двух сотнях бояр с их женами, а также о видных горожанах Тырговиште, на которых лежала не меньшая вина за злоумышление