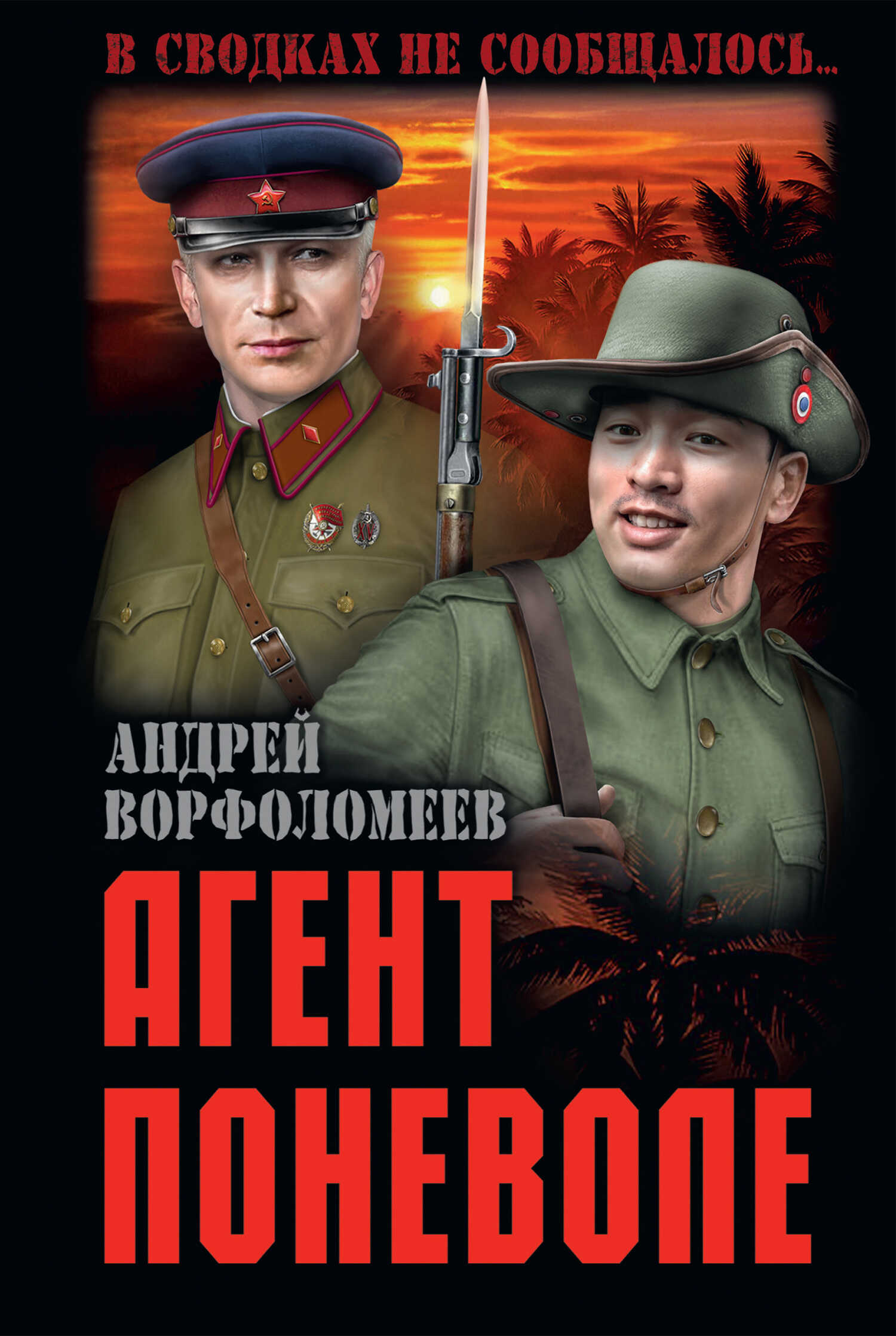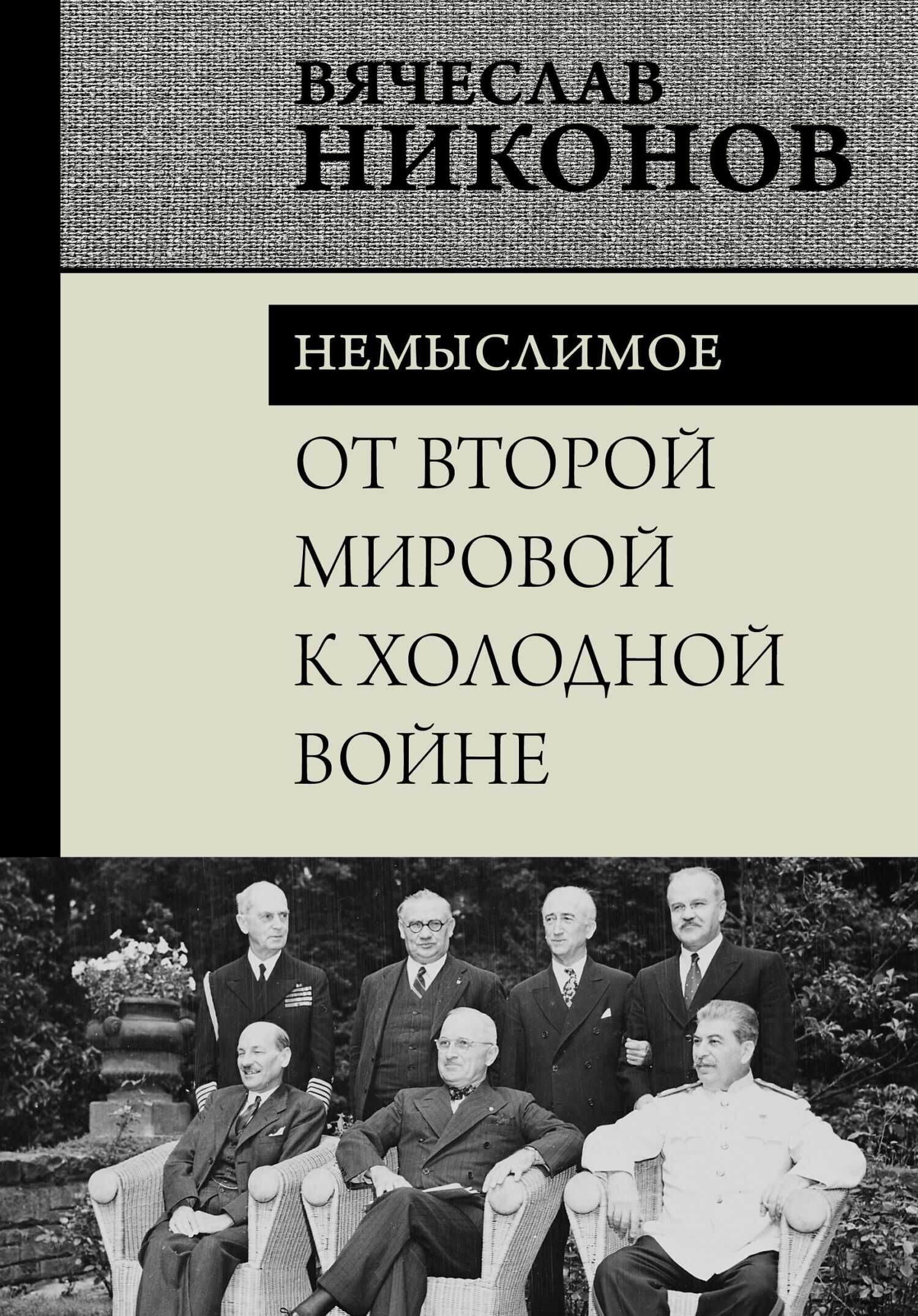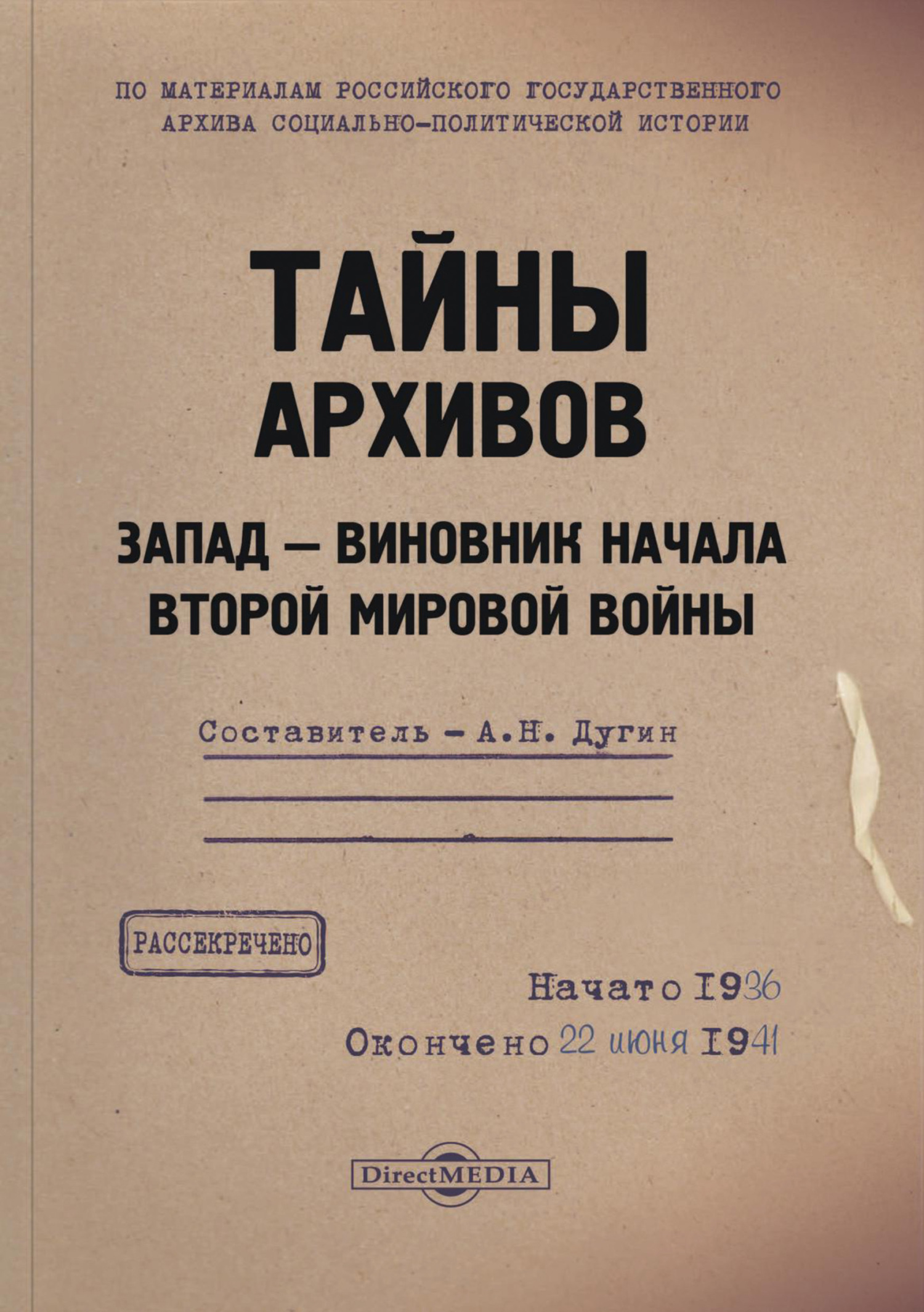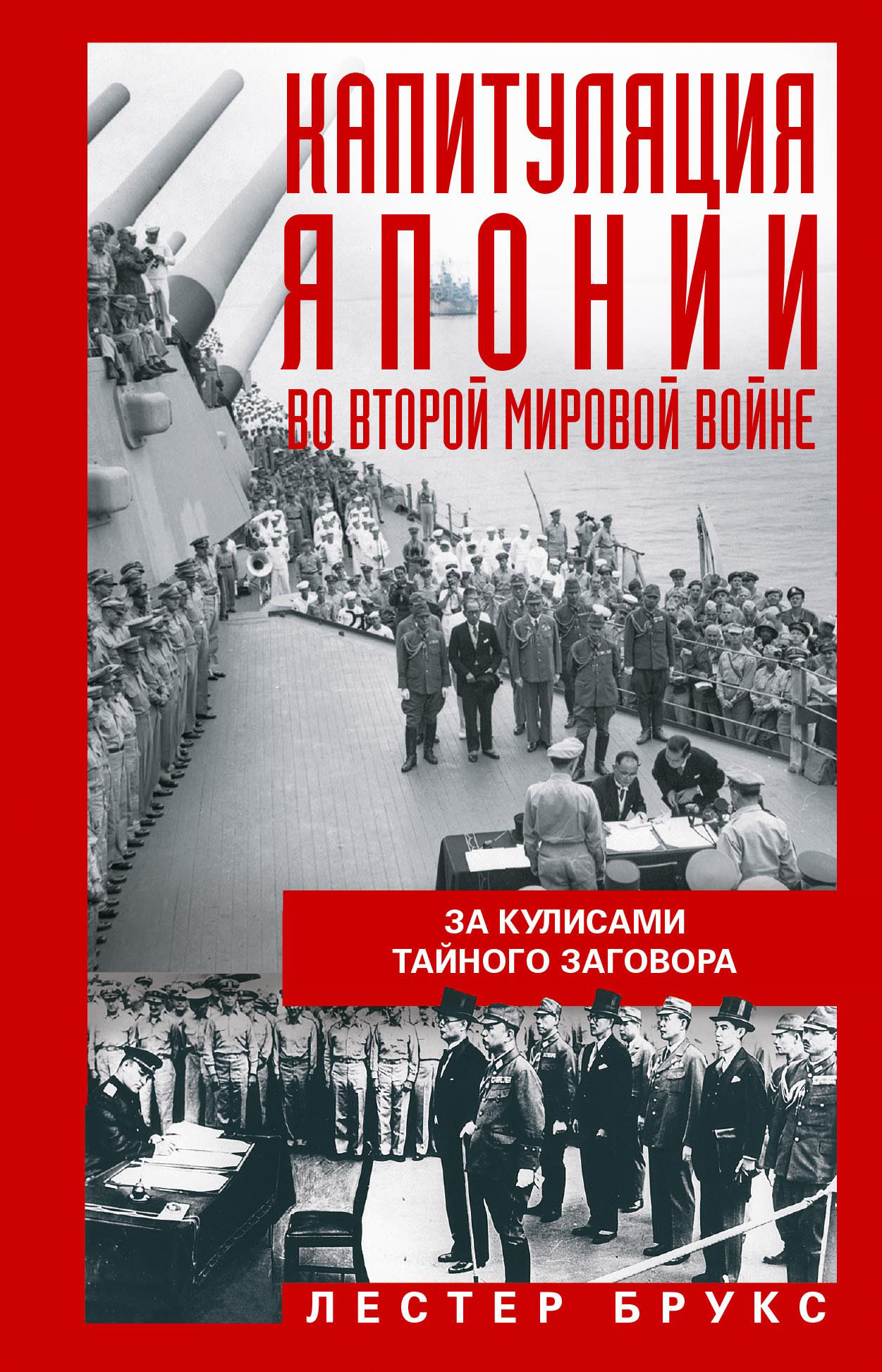клубы, а священники расстреливались или ссылались в лагеря. И это тоже была государственная политика. Равно, как и искоренение «неполноценных рас» в Третьем Рейхе. Так кого, спрашивается, поддерживать первосвященнику? Атеистов или неоязычников? К тому же, католики есть не только в Англии, Франции и США, но и в Италии, Венгрии и Хорватии. В Испании, наконец. Какие из них более «правильные»? Я, конечно, никоим образом папу не оправдываю. Но и осуждать не спешу.
Так и Невё. При всей своей ненависти к коммунизму, открыто он немцев все-таки не поддержал. А такие предложения поступали. И не один раз. Зато он, с несомненной симпатией, относился к маршалу Петэну.
– К правительству Виши, что ли? Так он ещё и коллаборационист, в придачу?!
– В некотором роде – да. Тут ещё вот какая тонкая штука получается. После разгрома сорокового года, Франция оказалась оскорблена и унижена. Разительный контраст с героической эпохой первой мировой войны! И антураж, вроде, тот – Компьенский лес, вагон маршала Фоша, да только результаты совсем иные. Оттого, думаю, многие французы и поддались очарованию пусть явно марионеточного, но, все-таки, «своего» правительства. Подобное вполне могло случиться и у нас, если бы немцы (конечно – не дай бог) заняли Москву и посадили «на престол» кого-нибудь, типа Семена Михайловича Буденного. За тем бы тоже многие потянулись. А что? Известное каждому мужественное лицо лихого рубаки-военачальника, немного усталый взгляд, знаменитые усы. Так и Петэн. Часть населения Франции его искренне поддержала. За что, кстати говоря, сейчас, и расплачивается всенародной ненавистью и позором. Невё, впрочем, и здесь был достаточно осторожен. Никаких публичных высказываний, за время оккупации, себе не позволял. Оттого и не подвергался, впоследствии, преследованию за коллаборационизм. Хотя, возможно, в какой-то мере, его оградил от этого духовный сан.
– Н-да, с непростым человеком вы предлагаете мне встретиться, товарищ генерал-майор. И что же я должен буду выяснить?
– Несколько вещей. Во-первых, собирается ли Невё, по-прежнему, вернуться в Москву? И, если да, то каковы его теперешние убеждения? Сейчас ведь, в свете несомненных и грандиозных побед Красной армии, многие меняют свое отношение к Советскому Союзу. Даже ярые недоброжелатели и те, поневоле, пересматривают собственную риторику. В связи с этим, нам и важно знать, ненавидит ли епископ Московский коммунистов, как и раньше или немного умерил свой пыл? И пускать ли его, в таком случае, обратно в СССР или лучше не стоит? Вот это, Николай, ты и должен выяснить…
глава 24.
Из Ирана, ближайший путь во Францию (вернее – один из его отрезков) проходил по территории Италии. Союзники высадились там ещё 15 ноября 1943 года и, с тех пор, медленно, но верно, продвигались к северу, отвлекая, согласно их собственной концепции, на себя как можно больше немецких войск. Что, в принципе, было вполне объяснимо в свете грядущих десантных операций «Драгун» и «Оверлорд». Да и сам итальянский театр военных действий, по сравнению с вторжением во Францию, считался явно второстепенным.
К моменту появления Николая в Италии, англо-американские войска вплотную подошли к так называемой «Готской линии» – оборонительной немецкой позиции, оборудованной на западных скатах Апеннинского хребта и сейчас деятельно готовились к её прорыву. Грех было упустить такую возможность и не увидеть армии союзников в деле! Тем более, что статус Николая, имевшего аккредитованное журналистское удостоверение, вполне это позволял.
Тем не менее, оставались ещё соображения секретности, которые, зачастую, на войне перевешивали многое. В связи с этим, настырного русского и принялись футболить по различным штабам, до тех пор, пока англичане, наконец, не додумались послать его в расположение 1-й канадской пехотной дивизии. Вроде, и свои парни, но опять же – доминионы. Да и действуют отнюдь не на направлении главного удара.
Традиция отправлять на фронт воинские контингенты из колоний и заморских владений зародилась в Великобритании ещё в годы первой мировой войны, когда собственных людских ресурсов метрополии стало катастрофически не хватать. Тогда-то, со всех концов обитаемого мира и потянулись караваны транспортных судов с австралийцами, новозеландцами, канадцами и южноафриканцами. Многие из них покрыли себя неувядаемой славой. Ситуация повторилась и после начала новой мировой войны – теперь уже второй. В чем Николай, собственно, и мог убедиться на Новой Гвинее. Хотя там, по большому счету, австралийцы защищали собственные островные владения.
Канадцев же, первоначально, планировали использовать только для боев на европейском театре. 1-я их дивизия, в составе британского экспедиционного корпуса, успела поучаствовать в неудачной Битве за Францию, после чего, эвакуировавшись из Дюнкерка, долгое время находилась на территории самой Англии. Теперь канадцев, в числе прочих войск, намеревались задействовать в грядущей высадке в Нормандии. Но та всё откладывалась и откладывалась, заслоняемая иными «прожектами» премьера Черчилля, для своего претворения в жизнь тоже требовавших определенных воинских контингентов. Вот так и получилось, что вместо близкой Франции, 1-я канадская пехотная дивизия, в июле 1943 года, десантировалась аж в далекой Сицилии! Здесь главной проблемой для выходцев из Северной Америки стал непривычный жаркий и засушливый климат. Ну и отсутствие должного боевого опыта, разумеется. Тем не менее, по прошествии, без малого, года, многое изменилось.
В штабе 1-й канадской пехотной дивизии Николая приписали к сводному (1-му) батальону «Верноподданного Эдмонтонского полка» (Так, наверное, можно перевести название «Loyal Edmonton Regiment»). Сорок лет спустя, достаточно громко заявили о себе другие выходцы из Эдмонтона – знаменитые хоккейные «Нефтяники». Но до этого ещё требовалось дожить. Пока же, 1-й батальон получил задание, при поддержке танков, атаковать занятый немцами итальянский городок Монтечиккардо. Внимательно ознакомившись с приказом, командир соединения подполковник Белл-Ирвинг разработал следующий план. Согласно ему, рота «A» должна была войти в город с левого фланга, рота «B» – закрепиться на высоте 356 и обеспечить проход сквозь свои боевые порядки роты «C», предназначенной для развития успеха, а рота «D» – оставаться в резерве. Атака намечалась на ночь с 27 на 28 августа 1944 года.
Перед самым её началом, Николая соответствующим образом экипировали, то есть – выдали каску и униформу с многочисленными нашивками «Press» («Пресса»). Ну и, на всякий случай, напомнили кодекс поведения журналиста на передовой. Главным правилом здесь считалось ни в коем случае не брать оружия в руки. И, в этом плане, специфика работы западных корреспондентов кардинальным образом отличалась от специфики работы корреспондентов советских. Ведь тем, зачастую, доводилось попадать в весьма серьезные переделки. Недаром же в известной песне пелось: «С «лейкой» и блокнотом, а то и с пулеметом»! Одно имя корреспондента армейской газеты «Знамя Родины» майора Сергея Борзенко чего стоит. Ведь именно он, во время проведения Керченско-Эльтингенской десантной операции