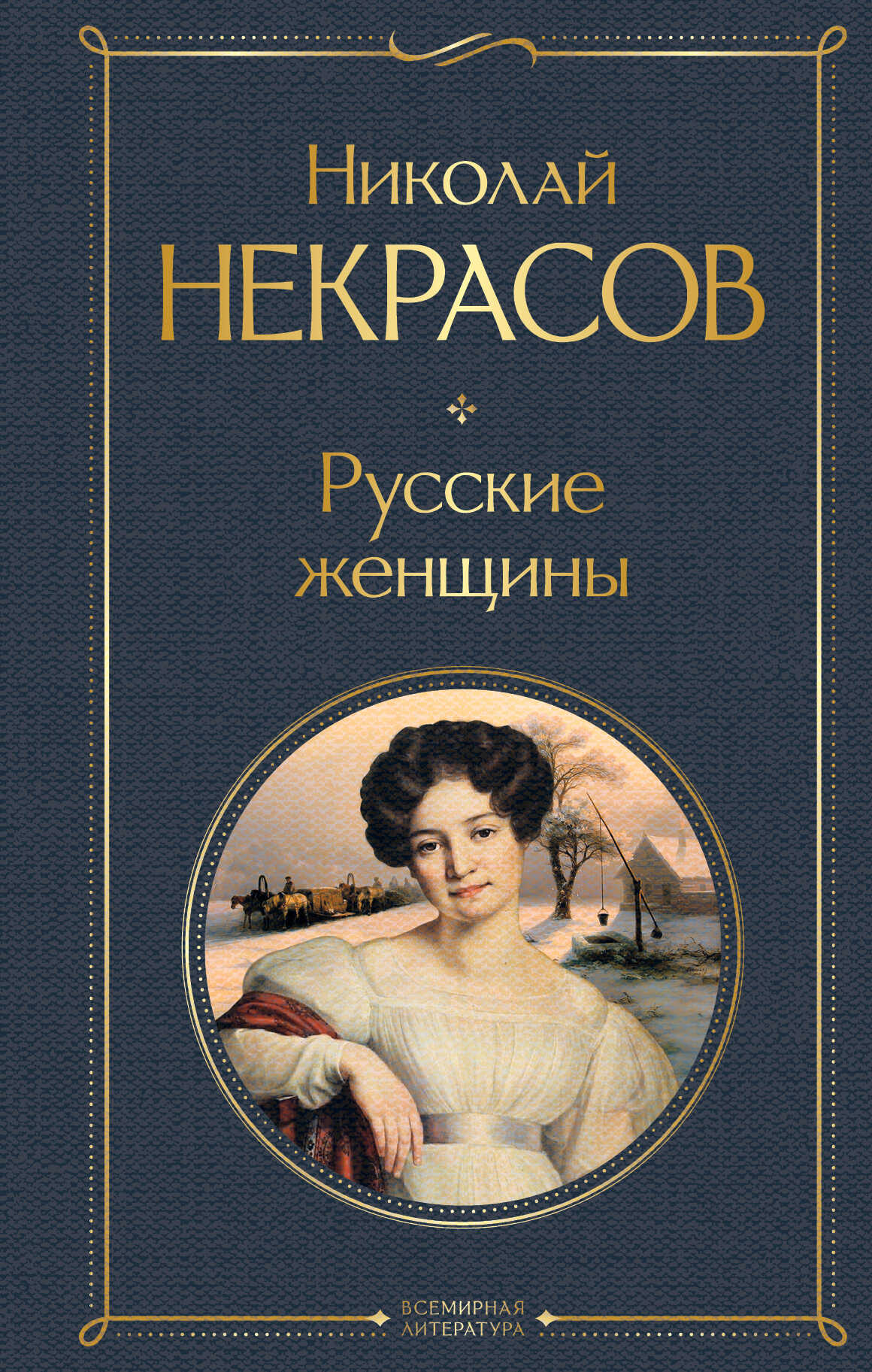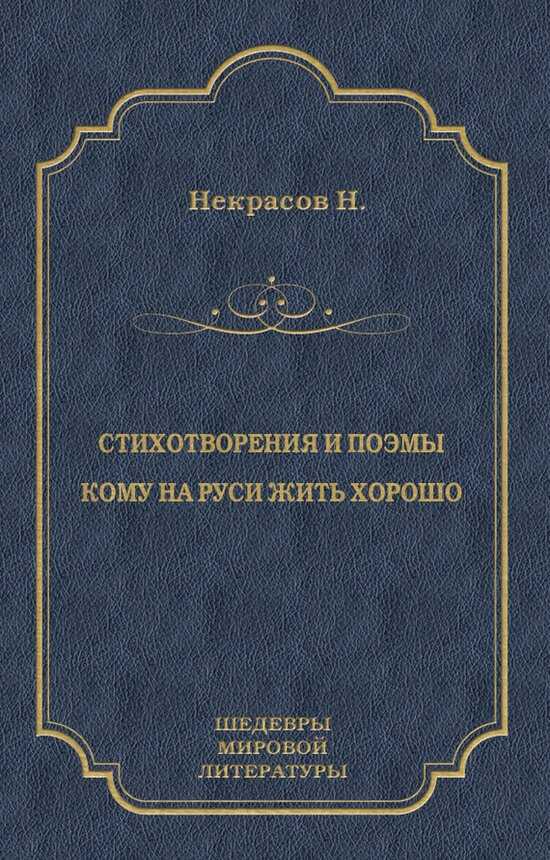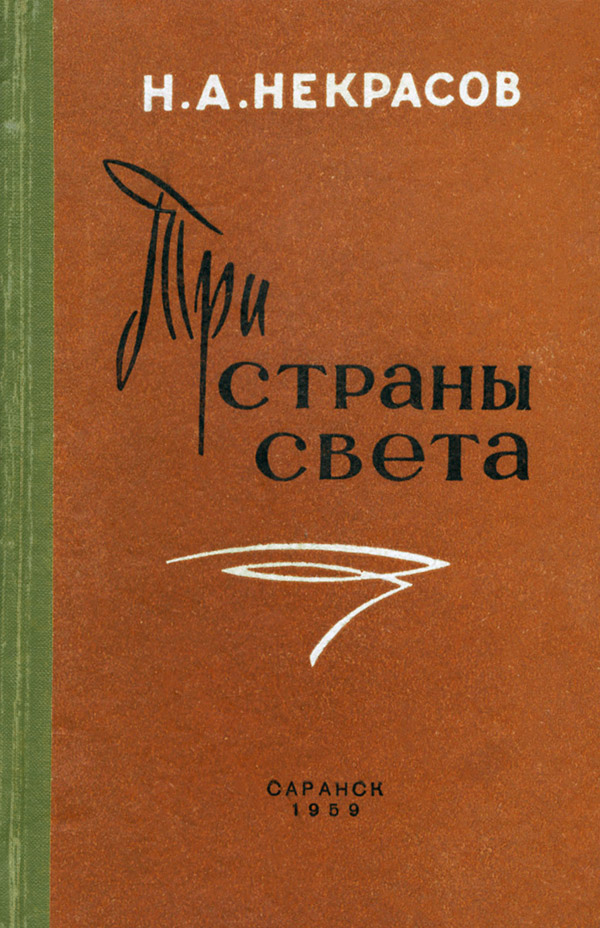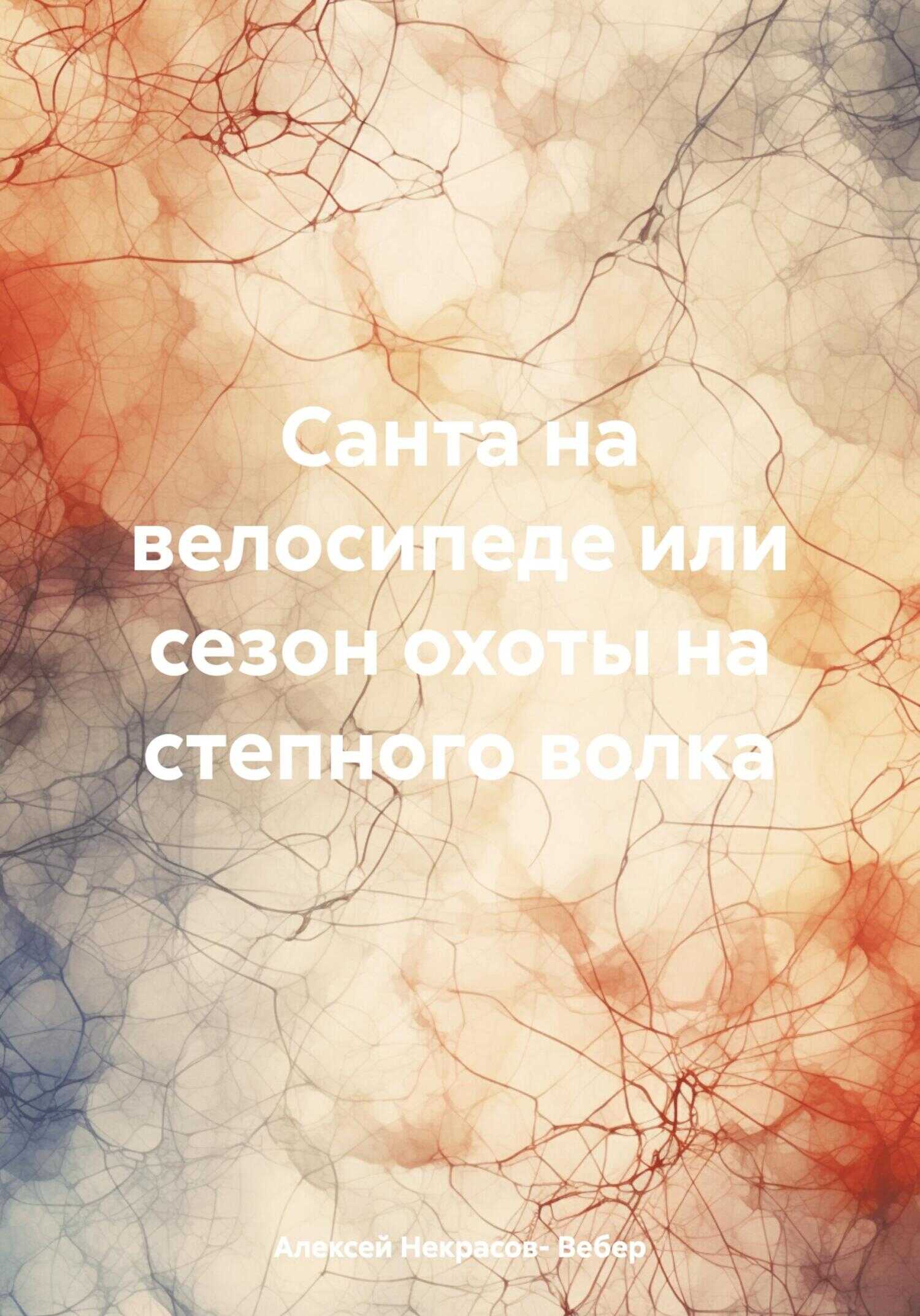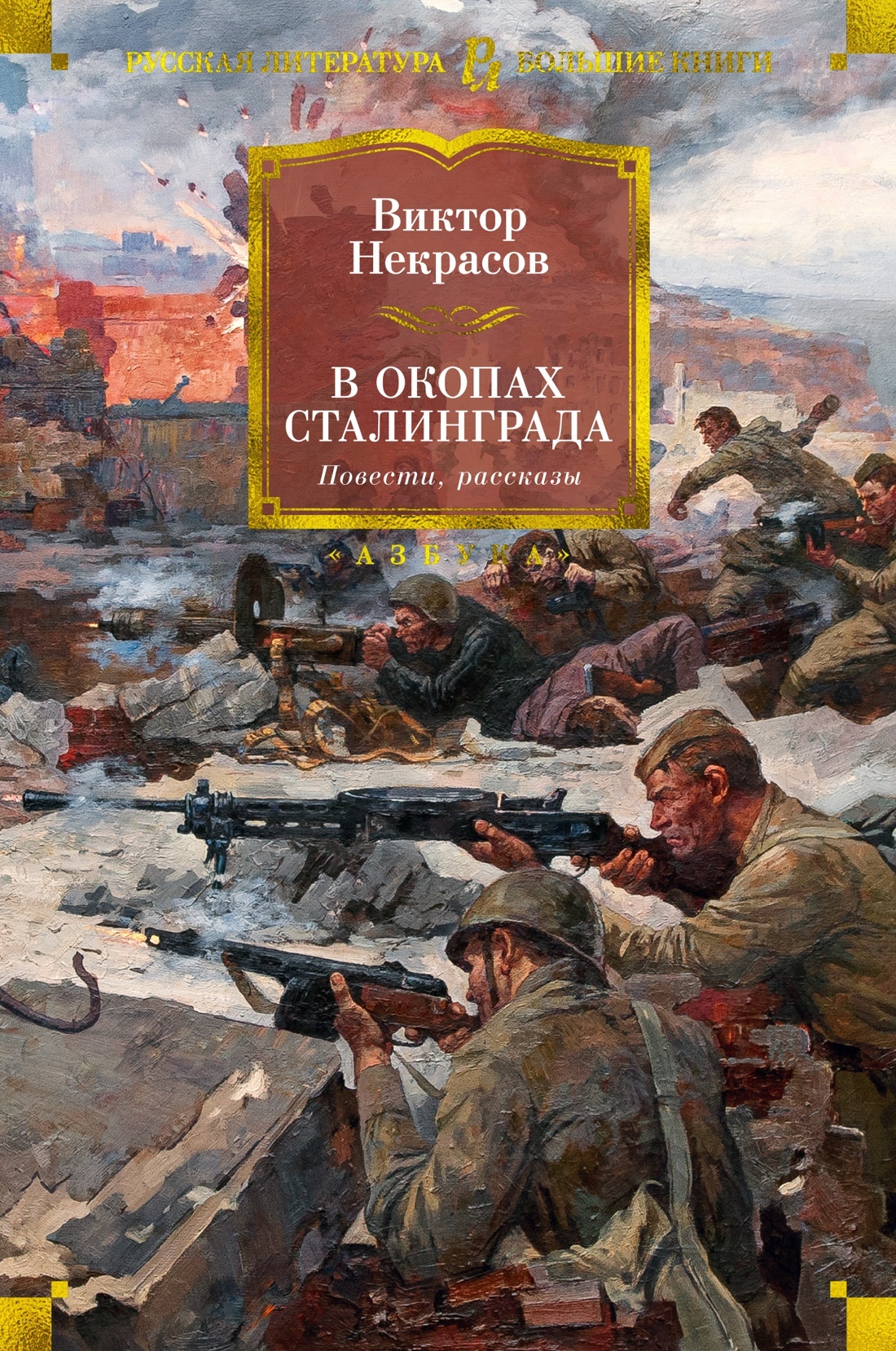Ознакомительная версия. Доступно 8 страниц из 38
скоро падала новая, и все становилось на прежние места.
Время шло и шло. Большая часть его мыслей была отдана как раз ему, времени. Он не ставил перед собой задачу додуматься до чего-нибудь определенного, потому что уже знал, что время, увы, есть неразрешимая загадка. Он лишь вновь и вновь удивлялся ее неразрешимости. Идет время, думал он, уже давно не пытаясь раскрыть глаза, куда же оно идет. И приходит ли назад, достигнув цели своего путешествия? Ведь все возвращается – и снег, и цветы, и птицы, и облака. Может быть, и время тоже? Ну да, понимал он во сне, оно же просто идет по кругу – точь-в-точь как скотоводы, что раз за разом, год за годом гонят свои стада вековечным маршрутом. Значит, и время однажды, замкнувшись, двинется по своим следам, и все начнется заново. Надо только дождаться.
Люди навещали его все реже, под конец не чаще раза в год, а то и раз в три года. Однажды дехканин, пришедший к нему с парой лепешек и чашкой кислого молока и рассчитывавший помолиться и попросить, чтобы его бараны не терялись, а корова растелилась так же хорошо, как и в прошлый раз, уже не смог понять, где именно сидит царь Дариан.
Он обошел утес, внимательно приглядываясь и пытаясь различить его фигуру, но так и не различил. Недоумевая, разочарованный земледелец сел поблизости на затененный камень и неспешно сжевал одну из двух лепешек, запивая молоком и размышляя. Должно быть, ушел, думал он. Странно. В прошлый раз он еще отчетливо его видел – ну, то есть можно было примерно догадаться. Тогда ему показалось, что старик уже никуда и никогда не сможет уйти: он уже почти сливался с утесом, а на том месте, где должно было быть его лицо, к тому времени уже плотно заплетенное ветвями, сидел большой богомол.
– Ладно, – сказал он, поднимаясь с камня и пожимая плечами. – Ну и впрямь, не вечно же ему тут торчать.
Дехканин больше не приходил, а время не прекратило своего течения. Одно поколение сменялось другим, другое третьим, никто их не считал, они просто растворялись в пучине неизведанного, исчезали в неизбывном мраке, и уже не находилось человека, который бы знал, почему утес называется Дариановым. Обрывистая скала стала просто мазаром, каких тысячи и тысячи, – местом, куда приходят люди поклониться святому, с именем которого связан родник, или водопад, или пятисотлетняя чинара, или еще какое приметное явление.
Правда, Дарианов мазар находился далеко от проезжей дороги, паломники добирались сюда сравнительно редко. Но все же порой преодолевали тяготы пути, надеясь излечиться от болезни, с какой не может справиться ни один знахарь, или попросить удачи в торговом деле, или просто пожаловаться на тяжелую жизнь. Оторвав от подола, они повязывали памятные тряпицы на ветви ближайших кустов, садились неподалеку, ели то, что принесли с собой в узелках, творили недолгую молитву, завершая ее всегда одним и тем же: произносили слово «аминь» и оглаживали бороды – или нежные безбородые лица – ладонями в знак символического омовения.
Разумеется, сложилась легенда. Никто не знал, сколько ей лет, а может быть, и веков. В немудреном сказании говорилось, что утес служил убежищем одному сильному святому из Багдада (почти такому же сильному, как если бы он явился из самой благородной Бухары), проведшему на скале долгое время – как минимум половину своей чистой жизни, а то и, кто знает, один Бог знает, всю. И так-то был праведен этот человек, и так-то усиленно размышлял он о Всевышнем, и так-то не хотел причинять зла ни людям, ни птицам, ни даже насекомым и растениям, что однажды Бог, убедившись в его непреклонной вере и оценив несокрушимость его преданности, взял безгрешного к себе – да, вот прямо вознес в небо, в синеву и сияние. И те, кто это видел, – а такие люди были, были такие люди! – попадали наземь от изумления и испуга, а придя в себя, порадовались за святого и хором возблагодарили Господа за содеянное – за то, что Он разрешил праведнику навечно встать у Его ослепительного престола.
Время шло и шло, и однажды к утесу пришли двое влюбленных.
Каждый из них – и юноша, и девушка – знал о своих чувствах, но оба еще робели открыться друг другу: ни девушка, ни юноша прежде не признавались в любви, с каждым из них это должно было произойти впервые, они боялись разочарования и думали не о том, как все-таки посметь и, может быть (хотя, конечно, на взгляд каждого, это было совершенно невероятно), в итоге убедиться во взаимности, а, наоборот, делали все, чтобы другой не подумал, будто бы к нему питают какие-то особенные чувства.
Они сели на горячие камни, стали болтать о пустяках. Потом юноша полез в котомку и достал яблоко. Он разрезал его ножом пополам, и они сгрызли по равной доле.
А потом то ли святой Дариан помог им, то ли это сладкое яблоко сыграло свою роль, но, так или иначе, признания им не понадобились: просто соединились губы, а слова стали лишними.
Нет, конечно, чуть позже они заговорили о своей любви друг к другу и принялись мечтать и делиться планами на будущее (которые, надо сказать, во многом странным образом настолько совпадали, что казалось, будто мечтают не двое, а один), а само их будущее представлялось обоим столь же неукоснительным, сколь неукоснительно всякий день встает и садится солнце. В эти счастливые минуты оно было для них заведомо ясным, определенным, прозрачным и не могло таить в себе никаких неожиданностей.
Когда же наговорились и нацеловались досыта (нужно понимать, что это просто форма речи, ибо нацеловаться досыта в той ситуации им было никак невозможно), то заметили, что солнце и впрямь клонится к закату. Настала пора возвращаться в кишлак, пока их не хватились и не связали воедино их обоюдное отсутствие. Хоть он и предупредил мать, что идет на дальний выпас, а девушка сказала сестре, что подруга просила ее помочь сучить пряжу, но причина таких парных пропаж всегда почему-то лежит на поверхности. Если бы еще они жили в большом поселке Рухсор, где находится главная усадьба колхоза «Ба номи бисту дуюми Партсъезд», что значит «Имени двадцать второго Партсъезда», и где было много похожих на них девушек и юношей, тогда бы, может быть, сельчане не уделяли столь пристального внимания им двоим. Но они были из совсем небольшого кишлака восточнее Рухсора, а в таких селеньицах, где все знают друг друга,
Ознакомительная версия. Доступно 8 страниц из 38