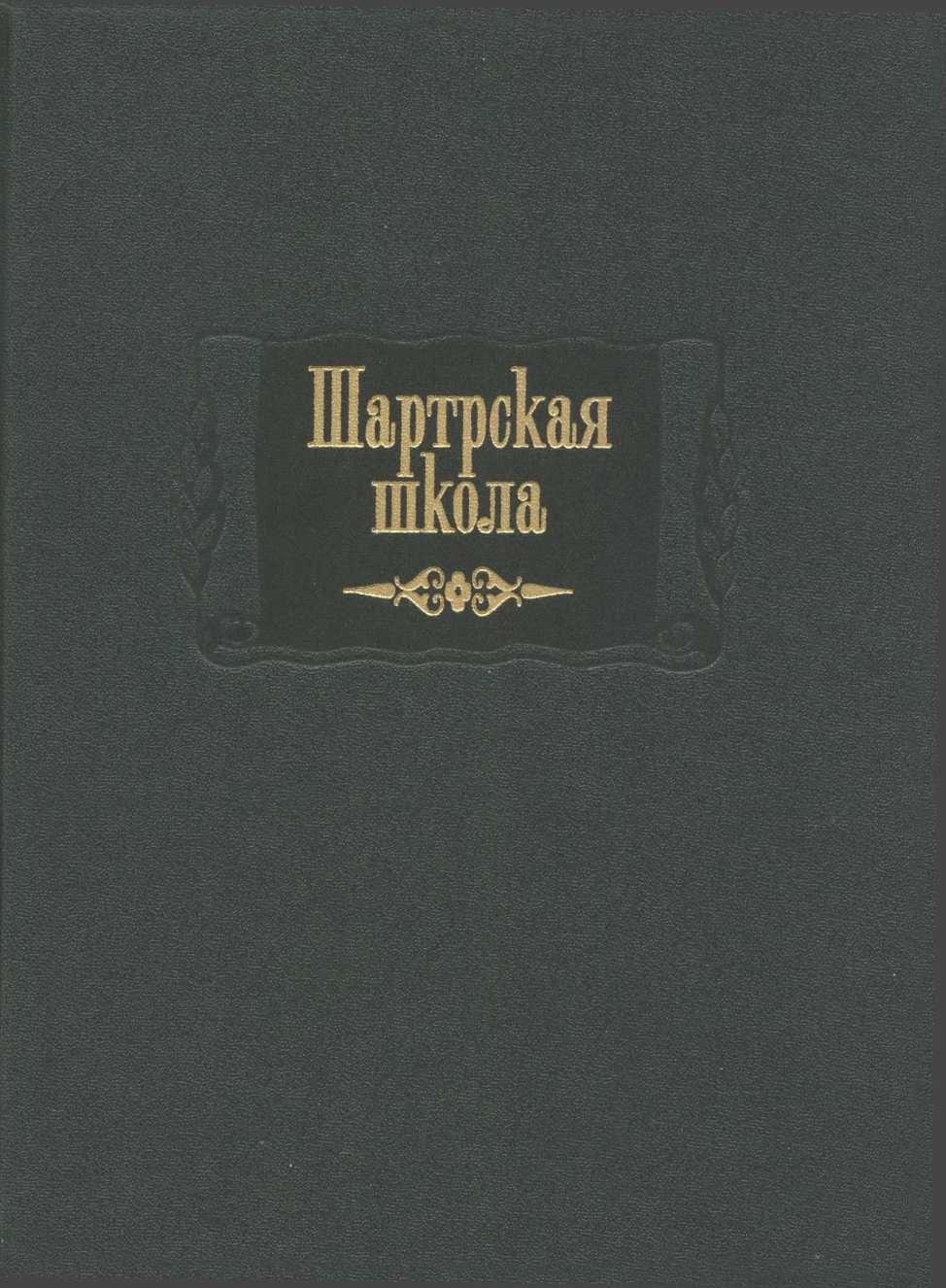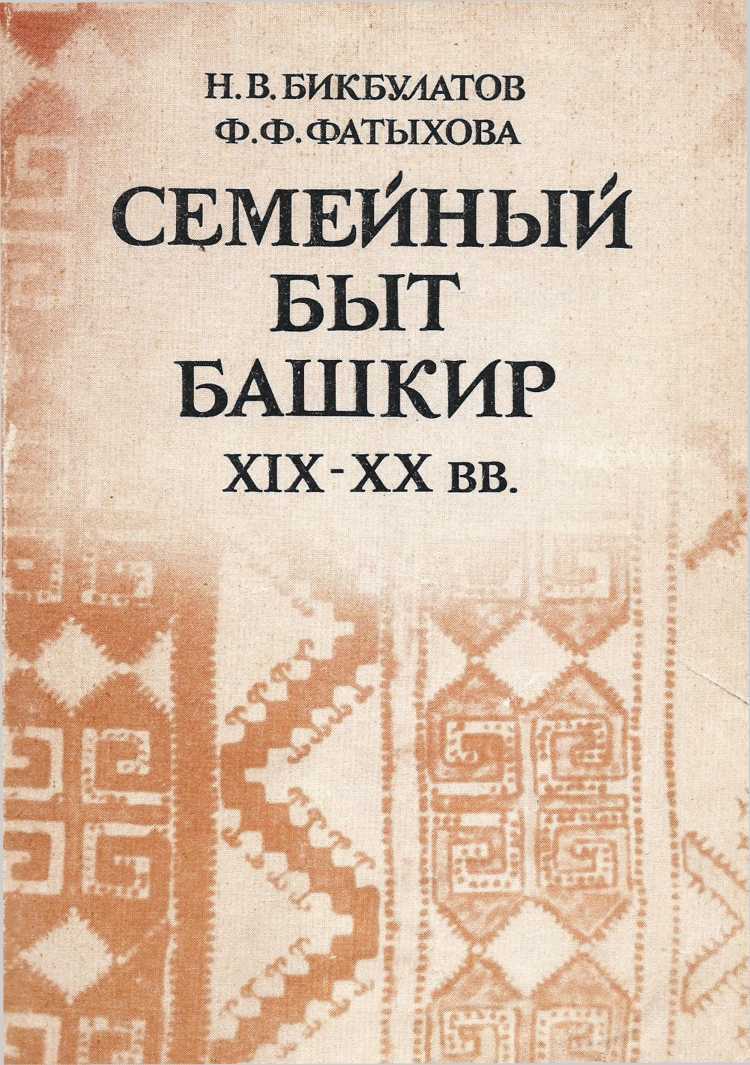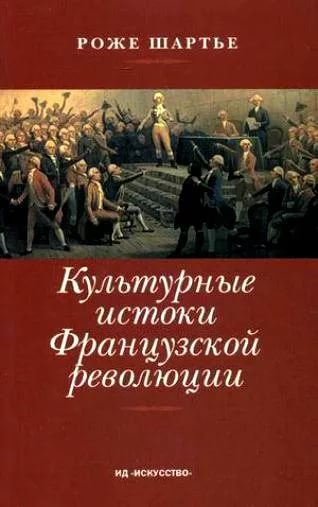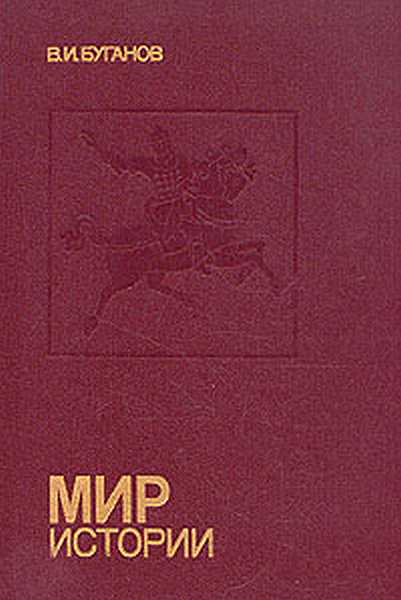пощечине. О, если бы он тогда, хотя пьяный, опомнился и тебе отвечал бы соразмерно твоему вопросу!
– А кто тебе дал власть над ним?
– Закон.
– Закон? И ты смеешь поносить сие священное имя? Несчастный!..[380]
Как видим, в этом отрывке Радищев косвенно указывает на закон совести (категорический императив) и дает понять, что бессовестное действие хозяина было следствием угнетенного статуса Петрушки. По сути, Радищев указанным примером поясняет на практике максиму широкого образа мыслей Канта: необходимость выйти за пределы собственной, зависящей от субъективных условий точки зрения и встать на некую общую точку зрения, определить которую можно, лишь последовательно становясь на точку зрения других людей. Нравственный закон категорического императива он применял к ситуации насилия, унижающей человеческое достоинство. Ссылаясь на государственный закон, допускавший такое насилие, Радищев противопоставлял его требованию совести, осуждающему произвол узаконенного личного суда помещиков и присужденных им наказаний в отношении дворовых и крестьян. Эта практика считалась справедливой и правильной даже самыми прогрессивными людьми как во временя Радищева, так и в середине XIX века, при условии недопущения излишней жестокости. Раскаяние рассказчика и его неприятие произвола заставляют его поставить вопрос о том, как обратить внимание властей на несправедливость, совершающуюся по закону:
Я напишу жалобницу в высшее правительство. Уподроблю все происшествие и представлю неправосудие судивших и невинность страждущего. Но жалобницы от меня не примут. Спросят, какое я на то имею право; потребуют от меня верющего письма. Какое имею право? Страждущее человечество. Человек, лишенный имения, чести, лишенный половины своея жизни, в самовольном изгнании, дабы избегнуть поносительного заточения. И на сие надобно верющее письмо? От кого? Ужели сего мало, что страждет мой согражданин? Да и в том нет нужды. Он человек: вот мое право, вот верющее письмо[381].
Как видим, автор объявлял основанием для своих действий сочувствие по совести к страждущим. Оно как будто давало право выступать с суждением о действиях государства. При этом в 1790 году, так же как и в случае с диспутом поэтов в 1744-м, право выносить свои суждения на суд публики было привилегией подданных благородного происхождения (без поддержки вельможи Оленина поэты вряд ли бы опубликовали свою книгу-диспут).
Ситуация изменится только спустя полвека под воздействием капиталистических отношений, развивающихся в России и разрушающих традиции подчинения в сословном обществе. Об этом с удовольствием напишет разночинец Виссарион Белинский:
Теперь талант есть богатое наследство, он уже не ропщет на несправедливость судьбы, он уже не завидует праву знатного происхождения, доставляющего все выгоды, все блага жизни: это утешительно, это отрадно!..[382]
В другом месте он подчеркивал, что «право называться поэтом», в отличие от сословных прав, всесословно. Его дают литераторам не связи и фамилия, а издатели и критики, которые, являясь участниками литературного процесса, становятся своеобразными вершителями социальной справедливости:
И у нас, говорю я, богатый и знатный барич, привилегированный гражданин модных зал, бьется изо всех сил, низко кланяется журналисту, чтобы тот поместил в своих листках его стишки и дал ему право назваться поэтом. По крайней мере подобные явления теперь не редки[383].
Право называться поэтом для Белинского означало следовать примеру Радищева – смело выражать то, что он считает необходимым для уяснения истины. Последнее должно было отделить настоящих поэтов от корыстных подражателей. То, что «Путешествие…» исковеркало жизнь литератору, только подчеркивало серьезность и ответственность занятия литературой. Государство также оценивало эти занятия как нечто важное и значимое. Суровость приговора Радищеву, когда смертная казнь была заменена сибирской ссылкой, сообщала подданным, что моральные обличения государственной политики и законов Российской империи и впредь будут рассматриваться как бунт и пресекаться.
В такой ситуации своеобразной отдушиной образованного класса становилось интересное замещение – вместо опасного порицания действий правительства можно было позволить себе порицать коллегу-литератора, восхваляющего «недостойные» шаги правительства. Так, например, П. А. Вяземский осуждал А. С. Пушкина за «Смирись, Кавказ, идет Ермолов» в эпилоге поэмы «Кавказский пленник»:
Поэзия не союзница палачей; политике они могут быть нужны, и тогда суду истории решать, можно ли ее оправдывать или нет; но гимны поэта не должны быть славословием резни. Мне досадно за Пушкина: такой восторг – настоящий анахронизм[384].
На примере этого суждения, отрицающего оправдание государственной политики в поэтическом творчестве как «верноподданническое», которое позже повторится в отношении стихотворения «Клеветникам России», можно сделать интересное заключение. Вяземский как бы отменяет оправдательный приговор Пушкина действиям Ермолова на Кавказе. При этом и для Пушкина, и для Вяземского одинаково важно право литературы свободно судить обо всем и выносить не только обвинительные, но и оправдательные приговоры. Тема оправдания, милости как проявления высшей власти морального суда играла важную роль в саморефлексии русской литературы и не могла не повлиять на гласный суд после реформы 1864 года.
Критик-литератор как первый присяжный среди злодейства
Если в XVIII веке те, кто выступал судьями на состязании анонимных поэтов, в лучшем случае оставляли свои суждения в виде маргиналий на страницах книги-диспута, то в XIX веке голоса самих литераторов и читающей публики стали звучать намного громче. Белинский констатировал, что возможность коммерческого успеха привлекала в литературу всякую «сволочь»:
Откуда набралась эта сволочь? Отчего она так расхрабрилась? Где рычаг этой внезапной и живой литературной деятельности? … его надо искать в кармане…[385].
Осуждая бесталанных искателей наживы всех мастей, Белинский ратовал за особый статус настоящих литераторов, тех, кто с помощью виртуозной техники доносит до читателей истину, и называл таких людей судьями общества. Истина для Белинского представляла собой «интерес общий, никогда не стареющий, никогда не изменяющийся – интерес души и сердца человеческого». Миссию литературы по выяснению и выражению истины Белинский и другие критики, например Н. А. Полевой[386], уподобляли правосудию и потому использовали в своих статьях соответствующие понятия: суд, суд присяжных, адвокат, судья. Учредительные нарративы русской критики 1830–1840-х годов часто обращались к таким чертам честного профессионала-литератора, как искренность чувств, тяга к истине и литературный талант.
Еще один важный аспект воображения русской публичной сферы, которую заложили литераторы, – это ламентации по поводу «молодости», «начинания» просвещения в России. «Начинание» выработки правил одического стихосложения в 1744 году можно пунктирно продолжить жалобами Карамзина на отсутствие русской литературы в конце 1790-х. Ему вторил Пушкин в своем наброске статьи «О ничтожестве литературы русской»[387]. Белинский подвел итог этой негативной истории русской литературы, сделав своим программным лозунгом тезис «У нас нет литературы»