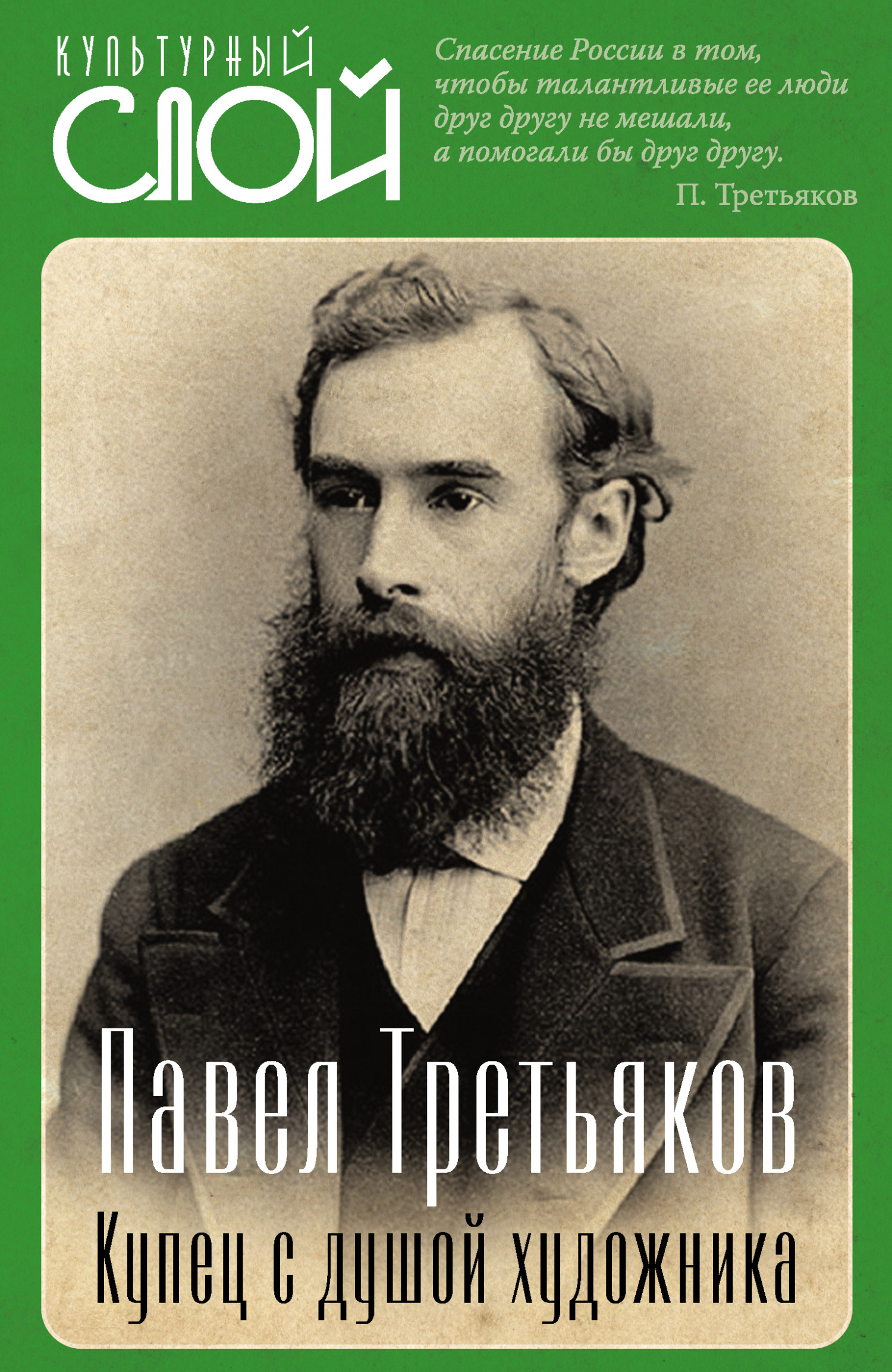Ознакомительная версия. Доступно 23 страниц из 113
проклинающих и восхваляющих, скопилось столь великое множество, что прочесть их никакой человеческой жизни не хватит. Характеристика Григория Великого одна из самых живых и блестящих. После Юлиана при жизни Григория сменилось еще пять императоров. Последний, Феодосий I, был провозглашен императором в 379 году. Он и поставил Григория на константинопольскую кафедру. За то, что Феодосий I покончил с веротерпимостью и провозгласил христианство государственной религией, церковь прозвала его Великим. Христиане поют ему панегирики, язычники проклинают. Он последний властвовал над единой Римской империей, которую развалил, разделив между двумя своими никчемными сыновьями, Аркадием и Гонорием, на восток и запад. Некоторые историки именно с него начинают отсчитывать Средние века. При нем христианство победило, но языческая оппозиция была жива и активна. Мертвый к этому времени уже четырнадцать лет как Юлиан был все еще опасен. Григорий утверждает, что как только он увидел будущего императора, то воскликнул: «Какое зло воспитывает Римская империя!», – но пафос борьбы не столь с язычеством, сколь с отступничеством определил столь нелестную характеристику в афинских воспоминаниях. Впрочем, предваряя свой рассказ о личном знакомстве, Григорий сообщает, что в Афинах «нечестие [Юлиана] не имело еще явной дерзости». К тому же портрет, написанный столь ярко и выразительно, свидетельствует, что автор прекрасно знал Юлиана, тогда еще не бывшего Отступником. Образ, столь живо отчеканенный – использую это слово, совпадающее с coining, любимым словечком иконологов из варбургской школы – в тексте «Слова 5» представляет архетип ищущего и жаждущего студента, полного переживаний по поводу своей неполноценности и из-за этого, от неуверенности в себе, ведущего себя столь вызывающе. Наглец поневоле, вылитый революционер-разночинец, Рудин-Базаров.
* * *
«Письмо 92, обращенное к архонту Келевсию» читается как обращение к афинской юности. Оно полно намеков на языческую культуру, изучение которой входило в программу как Григория с Василием, так и Юлиана. Ласточкино чириканье об аттической старине и о мало кому известных героях трагической истории – кто ж сейчас помнит имена Пандиона и Итиса? – столь истинно афинское, что вызывает в памяти одну из лучших бытовых сцен в мировом искусстве под названием «Уже весна». Сцена – рисунок на краснофигурной древнегреческой вазе, созданной около 500 года до нашей эры, находящейся в Эрмитаже. Из-за высочайшего уровня росписи ее пытались связать с именем мастера Ефрония, самого знаменитого афинского мастера рубежа VI–V веков до нашей эры, первым из известных художников ваз начавшего подписываться. Сейчас с этой версией никто не согласен, но имя Ефрония как автора продолжает сохраняться в некоторых публикациях. Впрочем, безымянной вазу не назовешь, она так хороша, что имеет имя собственное, называясь «Пеликой с ласточкой». Рисунок на ней ничем не хуже подписных творений Ефрония. На одной стороне изображена борьба в палестре двух юных нагих борцов – красивая, но типичная спортивная картинка, зато сцена на второй стороне уникальна. Одна представляет зрелого мужчину и юношу, сидящих на элегантнейших дизайнерских двуногих табуретах, и стоящего рядом мальчика. Сидящие юноша и мужчина задрапированы ниже пояса прозрачной тканью, мальчик полностью обнажен. Все трое красивы до невозможности. Они только что заметили летящую над ними ласточку, что заставило их поднять головы и повернуть лица к летящей птице. Возбужденно указывая на нее, каждый высказался, реагируя на появление ласточки по-своему. Слова, как в комиксах, вылетают из раскрытых губ, но они не закатаны в шары, а переданы прямой строчкой, что сообщает всему изображению какую-то умопомрачительно изысканную наивность. Юноша, видно, первый заметил птицу. Он возглашает: «Смотри, ласточка!» Мужчина вторит: «Правда, клянусь Гераклом», – а мальчик восклицает «Вот она!» Сцену подытоживает надпись от автора «Уже весна». Слова сливаются в чудную хайку, прямо-таки:
Все глазел на них,
Сакуры цветы, пока
Шею не свело.
Нисияма Соин, Япония, XVII в.
Изображение крайне минималистично, красные фигуры на черном глухом фоне, никаких деталей и стилизованный орнамент; тем не менее все так трепетно, чудная, чудная аттическая весна встает так близко, так маняще, все молоды, прекрасны, счастливы и бессмертны. «Уже весна» не укладывается в ставшее привычным деление духа Античности на винкельмановский аполлонизм и ницшеанское дионисийство. Нет в ней ни «спокойного величия», провозглашенного в «Мыслях о подражании греческим образцам» Винкельманом главным качеством античной классики, ни стихийной иррациональности экстаза, что был воспет в «Рождении трагедии из духа музыки» Ницше. «Пелика с ласточкой» прекрасна. В ней есть потрясающая близость к «Диалогам» Платона: поражающая обыденность грандиозного. Выйдешь на улицу рыбы купить, а тебе навстречу Алкивиад с Сократом.
Мальчик, юноша, мужчина. Три возраста. Полет, весна – мгновение: «Смотри, ласточка! Вот она!» Вместе с ласточкой из подземного царства возвращаются и Прозерпина, и Адонис: Деметра с Афродитой радуются. Красный цвет говорит о радости жизни и ее скоротечности, черный – о трауре смерти и вечности: пелики были впрямую связаны со смертью. «Греческие вазы» – современное обобщенное наименование множества типов сосудов, которые вазами назвать трудно. Они служили утилитарным целям: гидрия предназначалась для воды, амфора – для вина или масла, в кратерах вино и воду смешивали, из киликов пили. Типов было множество, и каждый имел определенное предназначение. В эти сосуды не ставили цветы, так что их скорее подобало бы называть горшками, чем вазами, они служили, а не украшали, но это не мешало им самим быть украшенными, и, судя по тому, что мастера стали их подписывать, они расценивались как предметы искусства. Назначение пелик, широкогорлых округлых сосудов с двумя ручками, загадочно. В основном их находят в могилах, что заставляет предположить, что эта форма предназначалась для хранения погребального пепла. Впрочем, в захоронения клали и амфоры, и кратеры, и лекифы. Росписи на пеликах отличаются особым интересом к бытовым сценкам, которые можно назвать жанровой живописью Античности, но интересно, что наиболее жизнеподобные сценки античного искусства как раз со смертью и связаны: великая «Гробница ныряльщика» из Пестума. «Пелика с ласточкой» также была найдена в гробнице, но не в Греции, а в Италии, в одном из захоронений недалеко от древнего этрусского города Вульчи в Тоскане.
* * *
В Эрмитаже пелика появилась в 1901 году: она, в составе целой коллекции античной керамики Александра Агеевича Абазы, государственного контролера и некоторое время министра финансов Российской империи, была куплена у его вдовы. Александр Агеевич вроде как выиграл вазу в карты у графа Александра Дмитриевича Гурьева, что случилось примерно около 1860 года. Александру Дмитриевичу ваза досталась от брата Николая, умершего в 1849 году; почему ему, а не детям, коих у Николая Дмитриевича было трое, неизвестно. Сам Николай Дмитриевич купил
Ознакомительная версия. Доступно 23 страниц из 113